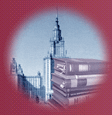
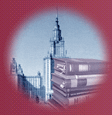 |
|
|
Преподавание и изучение истории в Московском университете имеет давние и богатые традиции. В разработанном М.В.Ломоносовым и И.И.Шуваловым и утвержденном
Университетским уставом
Разумеется, рост числа кафедр и специализаций не является показателем научного прогресса, как не является таким показателем и взятая сама по себе междисциплинарность. Основным критерием является формирование научных школ и их продуктивность, признанность в России и в мире. В Московском императорском университете такие школы были созданы М.П.Погодиным, С.М.Соловьёвым, В.О.Ключевским - по русской истории, Т.Н.Грановским, В.И.Герье, П.Г.Виноградовым, Д.М.Петрушевским, Н.П.Кареевым, М.М.Ковалевским, А.Н.Савиным - по всеобщей истории, М.К.Любавским - по истории славянства, К.Н.Кавелиным, П.Н.Милюковым, А.А.Кизеветтером - в области методологии истории, Н.К.Соколовым и А.П.Лебедевым - по истории церкви.
После длинной череды оправданных, а чаще - неоправданных, реорганизаций, на основе постановления
Наступившая в середине 80-х годов
Сейчас, в 2009 г., на факультете
Назову, упрощая, и пользуясь оценками самих кафедр, некоторые (24) крупные научные школы и их основателей:
Упоминая научные школы, нельзя не сказать и об экспедициях факультета - археологических (Новгородской, Донской, Крымской, Смоленской, Ставропольской, Поволжской), этнологических и археографических. Все они переживают в годы кризиса нелегкие времена, но они сохранены, и их надо поддерживать.
Истфак играет большую роль в деятельности Учебно-методического совета по истории и искусствоведению Учебно-методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию. Именно стандарт, разработанный нашим УМО в содружестве с Российским государственным гуманитарным университетом, со многими истфаками России, был закуплен Федеральным агентством по науке и инновациям и положен в основу университетского образования в нашей стране. Правда, мы должны это признать, далеко не все модульные конструкции стандарта, предписанные министерством, совершенны. Он нуждается в дальнейшем развитии, и в первую очередь - на основе развития принципов университетской автономии и снижения формализации.
Объем научной продукции исторического факультета МГУ сопоставим с аналогичными показателями крупнейших институтов РАН -
Не меньшим достижением является издание качественных учебников по истории. И принципиально важно то, что, помимо университетских учебников, специалистами кафедр подготовлена целая серия учебников и учебных материалов для средней школы4.
За 75 лет своего существования исторический факультет подготовил около
Серьезно улучшился и создал новые возможности технический инструментарий исследователя: от современных ЭВМ и их программного обеспечения до приборов-анализаторов археологического материала. Однако сейчас мы стоим перед новыми вызовами и должны находить новые адекватные ответы на них. Очевидна невозможность дальнейшего экстенсивного развития, значительного увеличения числа ставок, хотя все мы осознаем необходимость притока в науку молодых кадров. Путь - не столько механическое приращение, сколько - использование грантов научных школ, РГНФ и РФФИ, создание временных межведомственных научных групп, кооперирование с российскими и международными центрами, организация новых экспертных коллективов, результаты труда которых востребованы обществом.
Благоприятные возможности для популяризации исторических знаний и стимулирования интереса подрастающего поколения к истории предоставляются Школой юного историка, работа которой возобновлена после многолетнего перерыва (в том числе - в дистантной форме).
С воссозданием института кураторов курсов, с возникновением студенческих самодеятельных организаций заметно улучшилась воспитательная работа в целом. Рациональное использование стипендиального фонда, помощь факультета и его профсоюзной организации позволяют организовывать интересные экскурсии по историческим памятникам России, в которых принимают активное участие студенты всех курсов. С каждым годом все профессиональней и организованней становится студенческая самодеятельность. Концерты ко Дню Победы, ко Дню историка привлекают все большее число участников и зрителей, становятся событием в факультетской жизни. Успешно выступает на межфакультетском и межуниверситетском уровнях созданная по инициативе студентов команда "Что? Где? Когда?". Стала выходить и становится все более популярной издаваемая самими студентами - и только студентами - газета "Студенческая летопись". На сайте факультета страницам Творческого Союза Студентов-Историков (ТССИ), студенческой комиссии профкома уделяется большое место, поддерживается студенческий форум, регулярно помещаются предназначенные для студентов информационные материалы. Перед комиссией по информатизации, перед всеми кафедрами поставлена задача системно помещать на сайте факультета все необходимые учебно-методические материалы, развивать дистантное обучение.
* * *
Разумеется, нельзя анализировать работу исторического факультета без учета состояния сегодняшнего гуманитарного образования в целом. Нельзя не отметить, что не остановлен опасный процесс размывания фундаментального знания, замены его прикладными дисциплинами. Наглядный пример представляет внедрение за счет истории и философии россиеведения, обществоведения, культурологии и иных "наук о человеке". Дериваты живут только соками фундаментальности. Их мнимая и легкая востребованность, конъюнктурная полезность, не должны мешать осознанию того, что без внешне далеких от насущных дел фундаментальных областей знания невозможен ни научный, ни духовный прогресс общества. Историческая неграмотность, и вместе с тем апломб всезнайства современного общества вселяют тревогу. Это проявляется в повседневной жизни, в господствующих у школьников (да и не только у них) представлениях. Подростки зачастую не могут ответить на вопросы, когда была Великая Отечественная война, кто был в ней нашими врагами и союзниками, кто основатель Москвы и т.п. Среди более старшего поколения нередко встречаются поучающие историков суждения о единственной доступной им правде, почерпнутой часто не из достоверных источников и произвольно интерпретируемой. Достаточно впечатляющи картины телевизионных передач, вроде "Кто хочет стать миллионером" с ведущими "звездами" кино, эстрады, бизнеса, теряющимися при вопросах, предполагающих элементарные исторические представления.
Несистемность изучения истории, сокращение часов на нее в пользу других непрерывно возникающих дисциплин ведет и к историческому нигилизму, и просто к невежеству. Раньше его легко было обнаружить на вступительных устных экзаменах в вузы, теперь оно скрыто под покровом ЕГЭ, не проверяющего системность знания и тем более умение анализировать и сопоставлять информацию, нацеленного на автоматизм воспроизведения набора дистиллированных истин. Фантастические представления об отечественной и всемирной истории культивируются "школой" А.Т.Фоменко и ей подобными "первооткрывателями" и "разоблачителями". В обществе отсутствует понимание того, что происходит эрозия исторической памяти народа, карикатуризируется и осмеивается его прошлое, и чем это грозит в будущем. Упадок исторической грамотности в нашей стране (а точнее большая неравномерность и случайность исторических представлений) очевидны. Корни этого - в средней школе. Но одной из причин этого является и недостаток добротной популярной научной литературы, привлекательной для читателя. Работать в этом жанре - благородная миссия и, пока еще, недостаточно исполняемая. К чести ряда преподавателей нашего факультета могу сказать, что из-под их пера выходят как серьезные монографии, так и увлекательная популярная литература. Большего внимания требует разработка краеведения, истории Москвы, истории университетов.
Доверие общества к истории и историкам поколеблено и из-за частых конъюнктурных переоценок. Старые фальсификации, сменяющиеся новой ложью, - как писал академик Ю.С.Поляков, - заставляют хромать на обе ноги не только науку, но и общество5. Стремление к исторической объективности, добротность материала и способов его обработки - важнейшие принципы нашей работы, от которых не может быть отступлений, если мы хотим сохранить лицо, притягательность и нужность нашего образования.
Чтобы улучшить положение, нужны согласованные и объективные критерии оценки эффективности исследования, преподавания и усвоения истории. Пока их нет (если не считать общепризнанных премий или безусловного одобрения консенсуса профессионалов). Критериями, к сожалению, не могут быть индексы цитирования, так распространенные в естественных науках. Показатели числа ссылок мало что демонстрируют, ибо выбор журналов для их анализа весьма произволен, наиболее острые в полемическом отношении альманахи в нем не учитываются, а многочисленные ссылки в книгах просто игнорируются. В отборе журналов для подсчетов в большей мере присутствуют психосоциальные факторы и национальные предпочтения лидеров наукометрии6. Сама аналитика работы со ссылками игнорирует качественный анализ исследований по истории7. Есть, например, крайне важные темы, которыми занимается небольшая группа ученых. Ссылки на эти работы содержатся в немногих специальных и высокоавторитетных изданиях (типа "Византийского временника" или "Археографического ежегодника", не учитываемых наукометрами). И есть "кричащие", скандальные публикации, ненаучные по сути, но ссылок на них (хотя бы для опровержения) будет море. Значит ли это, что подобные труды лучше тех, что вырастают из многих лет архивных или иных штудий и могут быть востребованы значительно позднее? Возможно, одним (но только одним из многих!) показателем эффективности может быть учет использования результатов изысканий в учебной практике, их применимость в оригинальных трудах последователей или оппонентов, в создании и поддержке научных школ и направлений. Нельзя не отметить и нашу собственную слабость: рецензирование работ коллег осуществляется от случая к случаю, на страницах исторических журналов ему не уделяется должного внимания, а об аннотировании и говорить нечего. Между тем, в таких изданиях, как "Annales", "Speculum" и множестве других престижных журналов на Западе до половины объема выпуска отдается рецензиям и историографическим обзорам. Там и лежат ключи и к информации, и к ее оценке. Чтобы наладить хотя бы аннотирование отечественных и зарубежных публикаций можно привлекать научную молодежь, позаботившись и о материальном поощрении.
Обращает на себя внимание тот факт, что в то время, как во многих странах Запада интерес к истории падает, у нас он, наоборот, возрастает. Правда, поле для этого роста часто не обработано, и на целине малой гуманитарной культуры пробиваются развесистые сорняки домыслов и произвольных интерпретаций, легковесных сенсаций. Противостоять этому можно только долгой разъяснительной работой, в основе которой лежит принцип историзма, критика источников, комплексный анализ, четкое отделение точно установленного от предполагаемого, отказ от произвольных характеристик и оценок. К сожалению, в нашем обыденном сознании глубоко укоренена вера в истинность всякого печатного слова. И неискушенный читатель склонен доверять домыслу в псевдонаучном обрамлении. Зачастую в историческом сознании людей художественное и научное изложение недифференцированны. Более того, художественный образ (пусть и недостоверный) запоминается и усваивается легче и прочнее в силу своей яркости. И как бы банально это ни звучало, роль квалифицированных оценок, значение грифованных изданий и, особенно, честность и неангажированность авторов исторических текстов как никогда важны. Существенно, чтобы инкубатором исторических представлений были основанные на источниках труды (вспомним, как
Озабоченность руководства Российской Федерации распространением исторических фальсификатов вполне понятна и справедлива. Главный барьер им должен быть поставлен не цензурными ограничениями, а тщательной и профессиональной экспертизой, пропагандой научных исторических знаний, выявлением способов и источников фабрикации лжеисторических построений. При этом историк не должен стремиться угодить "социальному заказчику", жертвуя исторической достоверностью и скрывая или упрощая сложные, неоднозначные, амбивалентные процессы и явления. И в полемике с оппонентами необходимо мужество твердо говорить "нет", не поддаваясь соблазну ложных компромиссов.
Ликвидация так называемых "белых пятен" в отечественной истории усилила тенденцию к новым архивным изысканиям и публикациям, что благо. Отрадно, что многие такие труды отличаются высокой археографической культурой8, но наряду с ними появляются издания без должного аппарата, перепечатки без ссылок на предыдущие публикации, небрежно и быстро формируемые издательствами ради скорой прибыли опусы.
Нельзя не заметить, что большинство так называемых "новых" идей современной российской историографии заимствовано с Запада (постмодернизм, гендерная история, социальная антропология, культурология и т.д.). Не знаю, хорошо это или плохо. Но многие из этих направлений на Западе уже выдыхаются или сменяются новыми. На смену им приходит интерес к частным фактам и явлениям, история казуальности, индивидуальных проявлений, роли особенного в истории. В этом у нас есть свои, не менее известные приоритеты - вспомним альманахи "Одиссей", "Казус", "Адам и Ева", работы Ю.Л.Бессмертного9 и М.А.Бойцова10. Но право же, остается проблема - что для чего? Искусство для искусства (L'art pour l'art, art for art's sake) или история как наука и интерпретатор прошлого? Я лично склоняюсь к последнему. И пусть нас не обвиняют в фактологичности, ранкеанстве и приверженности к старой концепции историзма - природа не выдумала лучшего инструмента для измерения человека, чем сам человек. Принцип антропоморфизма - тоже научный принцип, известный с античности. Он не противоречит социальному анализу, не отвергает поиска закономерностей. Но правильно ли возводить случайное и единичное в ранг показательного? А если идти к невольным обобщениям, плодотворно ли говорить, например, о женщине Средневековья вообще, не учитывая разницу статуса, мировосприятия, воспитания представительниц прекрасного пола разных сословий и состояний? Не важнее ли сохранить концептуальное видение всемирно-исторического процесса, познать связь времен и деление эпох? В этом направлении идет и мировая историография. Мучительно преодолевая фрагментацию исторического знания, она стремится создать транснациональную или глобальную историю11 с системой глубоких взаимосвязей и переплетений, выявляемых на междисциплинарной основе. Есть у нее и свои "антиглобалисты"…
Может быть, на смену теории формаций, цивилизационному, микро- и макроисторическому подходу придет история векторная, история исторических столетий (не хронологических, а именно исторических, разной длительности, по-разному ориентированных для различных регионов)? И нам предстоит задуматься, были ли в разные века свои определенные полюса притяжения, детерминанты будущего развития, центры культурной и политической "моды"? И если да, то как и почему они сменяли друг друга, как взаимодействовали с окружающим миром? Примеры особой роли императорского Рима
Существует глубокая и сложная проблема отбора материала источников, их интерпретации, особенно, когда речь идет об отдаленном прошлом. Стирая следы человеческих деяний, время безжалостно разбивает и отражавшее их зеркало, умело или не очень создаваемое современниками событий. И задача историка заключается в том, чтобы из немногих сохранившихся осколков этого зеркала составить образ, наиболее точно отражающий прошлое. Но здесь мы сталкиваемся с морем проблем: ведь нам не только предстоит найти те осколки, которые единственно принадлежат изучаемому времени и соотнести их с эпохой, но и правильно понять их внутреннюю связь, взаимное расположение. Я употребил метафору зеркала еще и потому, что оно - деяние рук человеческих. Иногда умелых, но часто - не очень, иногда стремившихся найти истину, но чаще - скрыть или представить в выгодном для себя (или заказчиков) свете. Поэтому нередко оно - кривое. И не допускаем ли мы насилия над материалом, когда хотим его "выпрямить" по изначально несуществующим лекалам?
Стоит подумать, почему российские историки не занимают сейчас ведущих позиций в мировой историографии, особенно в методологии истории. На то есть несколько причин. Во-первых, их мало знают и редко читают на Западе, несмотря на некоторый рост числа статей, опубликованных недавно российскими авторами в зарубежных исторических журналах, учитываемых информационной системой World of Science (кстати, весьма несовершенной в области гуманитарных наук)12. Мы недостаточно печатаемся на основных западноевропейских языках - а сейчас, с нашей интеграцией в мировую науку, это становится необходимым. Необходимым еще и для того, чтобы предотвращать донорство, что подчас случается, когда идеи и подходы российских ученых, изложенные на русском языке, без ссылок на них используются в иностранной историографии. Во-вторых, у нас подчас не хватает смелости открыто сказать, что не все забытое старое плохо, что многие традиционные приоритеты не утрачивают своего значения и ныне, когда каждое поколение историков создает свою историю. Есть вечные ценности и универсальные истины. Отказ от них - регресс. Традиция и новация не противопоставление, а необходимое взаимодополнение. Впрочем, это трюизм, всеми понимаемый, но нередко отвергаемый на практике в пользу одного из двух компонентов. В-третьих, и, возможно, это главное: статистически доказано, что в нашей стране пока "и количество исследователей, и расходы на общественные и гуманитарные науки остаются крайне низкими по международным меркам"13. Этот объективно неблагоприятный фактор сдерживает развитие науки и прежде всего ее теоретических областей. Государственная поддержка гуманитарных исследований, переводы классических трудов отечественных ученых на иностранные языки, создание русских научных центров за рубежом, все это существенно отстает от того, что делается в США и в Европе. Вспомним хотя бы французскую программу "Пушкин", позволившую перевести на русский язык десятки фундаментальных работ французских историков, укрепив авторитет и влияние историографии этой страны.
Остро стоит проблема разной интерпретации исторических событий учеными России и стран ближнего зарубежья. Мы вышли из одной колыбели, мы все еще находимся в общем образовательном пространстве, и должны искать общие подходы к изучению нашего общего прошлого, во всяком случае - в преподавании. Средством этого может быть только диалог, неангажированный подход к истории, отказ от ложной политизации. При этом необходимо занимать принципиальную, взвешенную позицию и осознавать, что есть поля, где найти консенсус будет крайне трудно.
Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые традиционные приоритеты нашей науки, как, например, социально-экономическая (особенно - аграрная) тематика становятся все менее привлекательными для научной молодежи. Выход заключается в создании новых баз данных, новых методик их обработки (с использованием, к примеру, GIS (Геоинформационные системы - ГИС) или др.). Конечно, все сказанное не отрицает необходимости, например, истории сословий и институтов, атрибутики власти, или поисков индивидуальности. В истории - и это принципиально - должно быть место для разных подходов и всех направлений. Иначе она мертва как наука. Но всегда останется проблема, как собирать кубики вместе, и нужно ли это делать? Неминуемо общество задаст нам вопрос, как следует понимать стержневые закономерности развития нашей страны и окружающего мира. От этого не уйти, если мы остаемся в научном поле. И уже сейчас просматриваются некоторые ориентиры будущего науки14, которые мы должны учитывать и использовать, а часто и опережать - внимание к составлению верифицированных гигантских баз и банков данных, распространение их доступности и информационной насыщенности пока по отдельным сегментам истории, моделирование исторических процессов15. Новая архивистика предоставляет научные, индексированные он-лайн презентации всех материалов огромных мировых собраний документов прошлого (например - архив экономической истории Датини в Прато, Италия16). Возможности синергетики также открывают новое поле для историков17. Просматривается переход к новой социальной истории и новой экономической истории, с массированным использованием технологий математических и естественных наук. Большой прорыв сделан в генетике - и это имеет прямое отношение к антропогенезу и развитию отдельных этносов и социумов. К счастью, в ряде этих областей у нас есть достижения и их надо закреплять.
Важнейшей компонентой исторического образования как раньше, так и ныне, остается комплекс филологических дисциплин - изучение как древних, так и новых языков. Без их хорошего знания современная наука невозможна. Затрачиваемые на изучение языков в школе и в вузе часы непропорциональны во многих случаях полученным результатам. Но не меньшую озабоченность вызывает знание студентами (да и не только ими) русского языка, недостаточное владение правильной речью, зачастую беспомощность или логическая несвязанность выступлений при защите курсовых и дипломных работ, подчас и диссертаций. Важно возродить теоретические и практические курсы мастерства устной речи и повысить требования к абитуриентам - добиваться возвращения сочинения как обязательного вступительного испытания, как оптимального инструмента оценки начитанности, общекультурной подготовки абитуриентов. ЕГЭ этой роли не выполняет. Кстати, не лучшим ли критерием знаний, к тому же менее травматичным, является, к примеру, средний балл аттестата школьника? Ведь он учитывает весь curriculum учащегося, все его отношение к учебе. В сочетании с собеседованием по профильным предметам и сочинением он мог бы быть достаточным условием для поступления в вузы.
Словом, наш юбилей - это не только подведение итогов сделанного, но и повод для дискуссий, для размышлений о нынешнем состоянии науки и образования и путях их развития.
1Нельзя не отметить большой роли в поддержке научных проектов и изданий, которую сыграли и продолжают играть Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Без них многие фундаментальные труды просто бы не увидели свет, а научные экспедиции не состоялись бы.
2См. подробнее: Летопись Московского университета. Т.1-3. М., 2004; Летопись Московского университета. Исторический факультет. М., 2009.
3От юбилея к юбилею. Аннотированный список трудов, опубликованных учеными исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в 2004-2009 гг. Под ред. Л.С.Леоновой. М., 2009.
5Поляков Ю.А. Историческая наука: итоги и проблемы, кн.3. М., 2009, с.29.
6См. Писляков В.В., Дьяченко Е.Л. Эффект Матфея в цитировании статей российских ученых, опубликованных за рубежом. - Научно-техническая информация. Сер.2. Информационные системы и процессы, 2009, №3, с.19-24.
7См. Савельева И.М., Полетаев А.В. Публикации российских авторов в зарубежных журналах по общественным и гуманитарным дисциплинам в 1993-2008 гг.: количественные показатели и качественные характеристики. Препринт WP6/2009/02. М., 2009, с.28-31.
8См., например: Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I (1838-1839). Под ред. Л.Г.Захаровой и С.В.Мироненко. М., 2008.
9Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории. - Одиссей. Человек в истории - 1995. М., 1995, с.5-19; его же. Частная жизнь и индивид: предварительные итоги. - Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени. Под ред. Ю.Л.Бессмертного. М., 1996, с.345-354; его же. Что за "Казус"? - Казус. Индивидуальное и уникальное в истории - 1996, [вып.1]. М., 1997, с.7-24; его же. Проблема интеграции микро- и макроподходов. - Историк в поиске: микро- и макроподходы к изучению прошлого. Под ред. Ю.Л.Бессмертного, М.А. ойцова и П.Ш.Габдрахманова. М., 1999, с.291-301; Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени. Под ред. Ю.Л.Бессмертного. М., 1996.
10Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! - Казус. Индивидуальное и уникальное в истории - 1999, вып.2. М., 1999, с.17-41; его же. Выживет ли Клио при глобализации? - Казус. Индивидуальное и уникальное в истории - 2005, вып.7. М., 2006, с.15-41; Бойцов М.А., Тогоева О.И. Дело "Казуса". - Средние века, вып.68(4). М., 2007, с.149-159.
11См., например: Репина Л.П. Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике. Препринт WP6/2009. М., 2009, с.29-34.
12См. Савельева И.М., Полетаев А.В. Указ. соч., с. 19, 24-26.
13Полетаев А.В. Общественные и гуманитарные науки в России в 1998-2007 гг.: количественные характеристики. Препринт WP6/2008/07. М., 2008, с.43.
14См., например: Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. Препринт WP6/2008/06. М., 2008.
15Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов (В печати).
16http://datini.archiviodistato.prato.it/www/
17См., например: Бородкин Л.И., Андреев А.Ю. История и синергетика (анализ неустойчивых процессов) (В печати).