
Под наблюдением редактора В. Зенина Оформление художника М. Шлосберг. Технический редактор Н. Трояновская. Ответственные корректоры К. Арнольдова и В. Кочетова.
Сдано в набор 9 июня 1955 г. Подписано в печать 26 июля 1955 г. Формат 84 X 108 1/32. Физ. печ. л. 51/2 + (1 вклейка) 1/16. Условн. печ. л. 9,02. Учётно-изд. л. 9. Тираж 100 тыс. экз. А 02573. Заказ № 541. Цена 2 р. 10 к.
Государственное издательство политической литературы. Москва, В-71, Б. Калужская, 15. 3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БАБУШКИН (Краткая биографическая справка)
В. И. ЛЕНИН. Иван Васильевич Бабушкин. (Некролог)
ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БАБУШКИНА
Приложение. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И. В. БАБУШКИНА, НАПЕЧАТАННЫЕ В ГАЗЕТЕ «ИСКРА»

{3}
Среди славных борцов за создание большевистской партии, за свержение самодержавия и победу пролетарской революции в нашей стране видное место занимает Иван Васильевич Бабушкин. Ленин называл Бабушкина народным героем, посвятившим себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Характеризуя его революционную деятельность, В. И. Ленин писал: «Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов, с такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации» (Соч., т. 16, стр. 334).
Иван Васильевич Бабушкин родился 15 января 1873 года в семье крестьянина-бедняка села Леденгского, Вологодской губернии. Рано лишившись отца, он ещё в детстве испытал нищету и голод. Десятилетним мальчиком Бабушкин был отдан в мелочную лавочку, в которой познал безжалостный гнёт и жестокую эксплуатацию со стороны хозяина. Четырнадцатилетним подростком Бабушкин попал в Кронштадтскую торпедную мастерскую и там впервые узнал о борьбе рабочих за лучшую жизнь. После четырёхлетнего ученичества Бабушкин поступил на Семянниковский завод в Петербурге (ныне завод имени В. И. Ленина).
В 90-е годы прошлого столетия в России наблюдался подъём рабочего движения. В эти годы создаются первые социал-демократические кружки, в состав которых входят и передовые рабочие. Узнав о существовании {4} рабочих политических кружков, И. В. Бабушкин стремится принять активное участие в революционной борьбе. Ему посчастливилось попасть в марксистский кружок, которым руководил Владимир Ильич Ленин. Встреча с В. И. Лениным определила всю дальнейшую жизнь и деятельность Ивана Васильевича Бабушкина. В. И. Ленин высоко ценил энергию, выдающиеся способности, а главное глубокую и беззаветную преданность Бабушкина делу революции. Под непосредственным влиянием Ленина Бабушкин становится революционером-профессионалом, отдаёт всю свою энергию революционной борьбе русского пролетариата.
В 1895 году Бабушкин активно участвует в работе созданного В. И. Лениным петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». После ареста В. И. Ленина и других членов «Союза борьбы» Иван Васильевич, оставаясь на свободе, прилагает все усилия к тому, чтобы «Союз борьбы» не прекратил своей деятельности. В это время он написал и издал популярную агитационную листовку «Что такое социалист и государственный преступник?», в которой разъяснял рабочим, к чему стремятся и чего добиваются русские социал-демократы. Он продолжает революционную работу за Невской заставой среди рабочих Семянниковского, Александровского Стеклянного заводов, создаёт кружки, устраивает библиотеки.
В начале 1896 года Бабушкин был арестован по делу «Союза борьбы». 13 месяцев провёл он в доме предварительного заключения, в одиночной камере. Царским сатрапам не удалось сломить его волю к борьбе за правое дело: это был революционер ленинской школы. Бабушкин использует вынужденный отрыв от практической революционной деятельности для изучения марксистской теории.
В феврале 1897 года Бабушкин был освобождён из заключения и выслан в Екатеринослав (Днепропетровск). Устроившись здесь на один из заводов, Бабушкин быстро связывается с местной революционной организацией и со всей страстностью пролетарского революционера включается в её работу.
Усилиями Бабушкина и других революционеров в 1897 году в Екатеринославе был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Бабушкин становится одним {5} из eгo активнейших деятелей. В начале 1898 года екатеринославский «Союз борьбы» выпустил восемь листовок, адресованных к рабочим города. Каждая из этих листовок разоблачала произвол и насилия, царившие тогда в России, указывала рабочим путь освобождения, призывала их к активной революционной борьбе. Бабушкин организовал в Екатеринославе подпольную типографию, в которой было налажено издание нелегальной революционной литературы.
Трёхлетняя деятельность Бабушкина в Екатеринославе принесла свои плоды: вокруг Екатеринославского комитета РСДРП сплачивались революционные рабочие города.
Несмотря на тщательную конспирацию, о революционной деятельности членов Екатеринославского комитета узнала полиция: в 1900 году начались массовые аресты среди социал-демократов. Бабушкину удалось избежать ареста, но Екатеринослав ему пришлось покинуть.
Вернувшийся в это время из сибирской ссылки В. И. Ленин приступил к созданию общерусской газеты революционных марксистов — «Искры», которая должна была связать между собой разрозненные марксистские организации и подготовить создание революционной марксистской партии в России. Ленин считал целесообразным издавать газету за границей, чтобы избежать её возможного разгрома. Но газета должна была иметь тесную связь с социал-демократическими организациями в России. Ленинский план был горячо поддержан революционными марксистами России.
Иван Васильевич Бабушкин активно участвовал в создании ленинской «Искры». Летом 1900 года с помощью, Марии Ильиничны Ульяновой он связался с В. И. Лениным и стал одним из первых» агентов «Искры» и её активным корреспондентом.
В тяжёлой борьбе за создание марксистской партии Ленин возлагал на Бабушкина особые надежды, и Бабушкин эти надежды оправдал. Он был одним из тех деятелей, которые помогали установлению связей «Искры» с социал-демократическими группами в России. Сотни корреспонденции, написанных рабочими Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и других городов, переслал Бабушкин в ленинскую «Искру». «Пока Иван Васильевич {6} остается на воле,— писал Ленин,— «Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих корреспонденциях».
Скрываясь от преследований царской полиции, Бабушкин вынужден был постоянно менять своё местожительство. Он вёл революционную работу в Смоленске, Полоцке, Покрове, Москве, Орехово-Зуеве, в Иваново-Вознесенске. Всюду, где находился Бабушкин, он расширял и укреплял связи, «Искры» с рабочими массами. В это время Бабушкин по поручению Ленина написал популярную брошюру «В защиту иваново-вознесенских рабочих», изданную нелегально и широко распространённую среди рабочих промышленных центров.
По поручению Ленина И. В. Бабушкин вместе с Николаем Эрнестовичем Бауманом проводил большую организационную работу по сплочению московских социал-демократов вокруг «Искры».
В конце 1901 года Бабушкин был вновь арестован, но летом 1902 года ему удалось бежать из тюрьмы и уехать за границу, в Лондон, где находилась тогда редакция «Искры». В Лондоне Бабушкин встретился с Лениным. В. И. Ленин посвятил Бабушкина в планы дальнейшей работы искровских организаций по созданию марксистской партии. «Много переговорено было там, много вопросов обсуждено совместно»,— писал Владимир Ильич о своих встречах с Бабушкиным.
Из Лондона Бабушкин рвался в Россию, чтобы принять самое горячее участие в осуществлении ленинских планов создания революционной марксистской партии. С трудом удалось Ленину уговорить Бабушкина побыть несколько месяцев за границей, чтобы написать воспоминания о своей жизни и революционной деятельности. Ленин считал, что такая брошюра будет в высшей степени полезной для молодых рабочих, которые будут учиться по ней, как надо жить и действовать каждому сознательному рабочему. «Воспоминания», охватывающие 1893—1900 годы жизни и деятельности революционера-профессионала, были им написаны. Впервые они были опубликованы после Октябрьской социалистической революции.
Написав воспоминания, Бабушкин по заданию Ленина поехал в Петербург, где борьба революционных марксистов с «экономистами» приняла особенно острые формы. В Петербурге Бабушкин немедленно включился в работу местной искровской организации, заняв последовательную {7} ленинскую позицию по всем вопросам революционной деятельности. Ленин одобрил работу Бабушкина. 16 января 1903 года Владимир Ильич писал: «Приветствуем энергичное поведение Новицкой (псевдоним Бабушкина.— Ред.) и еще раз просим продолжать в том же боевом духе, не допуская ни малейших колебаний» (Соч., т. 34, стр. 112).
Ленин возлагал на Бабушкина большие надежды, «...пока есть у вас Богдан (другой псевдоним Бабушкина. — Ред.),— писал он в Петербург,—нельзя и на безлюдье жаловаться» (Соч., т. 34, стр. 111). Однако Бабушкин недолго проработал в петербургской организации: он был арестован и после длительного одиночного заключения сослан в далёкую якутскую ссылку.
Находясь в ссылке на Крайнем Севере, в Верхоленске, оторванный от партийной жизни, от родных и товарищей, Бабушкин, несмотря на все тяготы и невзгоды, не унывал и глубоко верил в торжество того дела, за которое боролся всю жизнь.
В ссылке Бабушкин организует кружки из ссыльных, много учится сам, готовится к предстоящей борьбе.
Наступили дни революции 1905 года. Рабочий класс России поднялся на борьбу против царского самодержавия. Бабушкин возглавляет революционное движение в Иркутске. Как член Иркутского комитета партии он ведёт непримиримую борьбу против меньшевиков, призывает готовить массы к вооружённому восстанию против царизма.
После поражения декабрьского вооружённого восстания в Москве начался поворот к постепенному отступлению революции. Рабочий класс отступал с жестокими боями. Упорно сражались рабочие Читы, где Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, созданный и руководимый большевиками, действовал как орган революционной власти. В Иркутске ощущался недостаток оружия. Стремясь организовать вооружённую поддержку читинцам, Бабушкин вместе с группой товарищей в конце декабря 1905 года отправился из Иркутска в Читу за оружием. На обратном пути Бабушкин и пять его товарищей были захвачены карательной экспедицией, направленной царским правительством в Сибирь для борьбы против революционного движения. 31 января 1906 года на станции Мысовая все шестеро без всякого суда и следствия {8} были зверски расстреляны на краю вырытой на скорую руку общей могилы. Они умерли, как герои, отказавшись отвечать на вопросы царских палачей, которым так и остались неизвестны имена расстрелянных.
Героический образ Ирана Васильевича Бабушкина — неутомимого борца за свободу и счастье трудящихся — служит вдохновляющим примером для советских людей — строителей коммунизма.
{9}
Мы живем в проклятых условиях, когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что сталось с ним: мается ли он где на каторге, погиб ли в какой тюрьме или умер геройской смертью в схватке с врагом. Так было с Иваном Васильевичем, расстрелянным Ренненкампфом. Узнали мы об его смерти лишь совсем недавно.
Имя Ивана Васильевича близко и дорого не одному социал-демократу. Все, знавшие его, любили и уважали его за его энергию, отсутствие фразы, глубокую выдержанную революционность и горячую преданность делу. Петербургский рабочий, он в 1895 г., с группой других сознательных товарищей, энергично ведет работу за Невской Заставой среди рабочих Семянниковского, Александровского, Стеклянного заводов, образовывает кружки, устраивает библиотеки и сам все время страстно учится. Все мысли его направлены на то, как бы расширить работу. Он принимает деятельное участие в составлении первого агитационного листка, выпущенного в С.-Петербурге осенью 1894 года, листка к Семянниковским рабочим, и самолично распространяет его. Когда в С.-Петербурге образовывается «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Иван Васильевич становится одним из активнейших его членов и работает в нем вплоть до своего ареста. Идея создания за границей политической газеты, которая послужила бы делу объединения и {10} укрепления с.-д. партии, обсуждалась вместе с ним его старыми товарищами по петербургской работе — основателями «Искры» — и встретила с его стороны самую горячую поддержку. Пока Иван Васильевич остается на воле, «Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих корреспонденциях. Просмотрите первые 20 номеров «Искры», все эти корреспонденции из Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все они проходили через руки Ивана Васильевича, старавшегося установить самую тесную связь между «Искрой» и рабочими. Иван Васильевич был самым усердным корреспондентом «Искры» и горячим ее сторонником. Из центрального района Бабушкин перебирается на юг, в Екатеринослав, где его арестуют и сажают в тюрьму в Александровске. Из Александровска он бежит вместе с другим товарищем, перепилив решётку окна. Не зная ни одного иностранного языка, он пробирается в Лондон, где тогда была редакция «Искры». Много переговорено было там, много вопросов обсуждено совместно. Но Ивану Васильевичу не привелось быть на втором съезде партии... тюрьма и ссылка выбили его надолго из строя. Поднимавшаяся революционная волна выдвигала новых работников, новых партийных деятелей, а Бабушкин жил в это время на далеком севере, в Верхоленске, оторванный от партийной жизни. Времени он даром не терял, учился, готовился к борьбе, занимался с рабочими, товарищами по ссылке, старался сделать их сознательными социал-демократами и большевиками. В 1905 г. подоспела амнистия, и Бабушкин двинулся в Россию. Но и в Сибири в это время кипела борьба, и там нужны были такие люди, как Бабушкин. Он вступил в Иркутский комитет и с головой ринулся в работу. Приходилось выступать на собраниях, вести социал-демократическую агитацию и организовывать восстание. В то время, как Бабушкин с пятью другими товарищами — имена их не дошли до нас — вез в Читу большой транспорт оружия в отдельном вагоне, поезд был настигнут карательной экспедицией Ренненкампфа, и все шестеро, безо всякого суда, были немедленно же расстреляны на краю вырытой на скорую руку общей могилы. Умерли они, как герои. Об их смерти рассказали солдаты-очевидцы и железнодорожники, бывшие на этом же поезде. Бабушкин пал жертвой зверской расправы царского опричника, но, умирая, он знал, что дело, {11} которому он отдал всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие товарищи-рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не победят…
Есть люди, которые сочинили и распространяют басню о том, что Российская социал-демократическая рабочая партия есть партия «интеллигентская», что рабочие от нее оторваны, что рабочие в России — социал-демократы без социал-демократии, что так было в особенности до революции и в значительной мере во время революции. Либералы распространяют эту ложь из ненависти к той революционной борьбе масс, которой руководила в 1905 РСДРП, а из социалистов перенимает эту лживую теорию кое-кто по неразумию или легкомыслию. Биография Ивана Васильевича Бабушкина, десятилетняя социал-демократическая работа этого рабочего-искровца служит наглядным опровержением либеральной лжи. И. В. Бабушкин — один из тех рабочих передовиков, которые за 10 лет до революции начали создавать рабочую социал-демократическую партию. Без неустанной, геройски-упорной работы, таких передовиков в пролетарских массах РСДРП не просуществовала бы не только десяти лет, но и десяти месяцев. Только благодаря деятельности таких передовиков, только благодаря их поддержке РСДРП выросла к 1905 г. в партию, которая неразрывно слилась с пролетариатом в великие октябрьские и декабрьские дни, которая сохранила эту связь в лице рабочих депутатов не только II, но и III, черносотенной, Думы.
Либералы (кадеты) хотят превратить в народного героя недавно умершего председателя I Думы, С. A. Myромцева. Мы, социал-демократы, не должны пропускать случая, чтобы выразить презрение и ненависть царскому правительству, которое преследовало даже таких умеренных и безобидных чиновников, как Муромцев. Муромцев был только либеральным чиновником. Он не был даже демократом. Он боялся революционной борьбы масс. Он ждал свободы для России не от такой борьбы, а от доброй воли царского самодержавия, от соглашения с этим злейшим и беспощадным врагом русского народа. В {12} таких людях смешно видеть народных героев русской революции.
А такие народные герои есть. Это — люди, подобные Бабушкину. Это — люди, которые не год и не два, а целые 10 лет перед революцией посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Это — люди, которые не растратили себя на бесполезные террористические предприятия одиночек, а действовали упорно, неуклонно среди пролетарских масс; помогая развитию их сознания, их организации, их революционной самодеятельности. Это — люди, которые встали во главе вооруженной массовой борьбы против царского самодержавия, когда кризис наступил, когда революция разразилась, когда миллионы и миллионы пришли в движение. Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин.
Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации.
Прошла уж пятая годовщина, декабрьского восстания 1905 года. Будем чествовать эту годовщину, вспоминая рабочих-передовиков, которые пали в борьбе с врагом. Мы обращаемся с просьбой к товарищам рабочим собирать и присылать нам воспоминания о тогдашней борьбе и дополнительные сведения о Бабушкине, а также о других социал-демократических рабочих, павших в восстании 1905 г. Мы намерены издать брошюру с жизнеописанием таких рабочих. Такая брошюра будет лучшим ответом всяким маловерам и умалителям Российской социал-демократической рабочей партии. Такая брошюра будет лучшим чтением для молодых рабочих, которые будут учиться по ней, как надо жить и действовать всякому сознательному рабочему.
{15}
I
Настоящие воспоминания вызваны были тем, что один мой близкий друг, т. е. настолько близкий, что, по русской пословице, мы с ним жили душа в душу, даже больше — чуть ли не единую душу разделили надвое — так, по крайней мере, эта дружба представлялась мне лично,— в подробностях передавал мне все, что он помнил относительно своего превращения из самого заурядного «числительного» молодого человека без строгих взглядов и. убеждений — в человека-социалиста, проникшегося глубоко социалистическими убеждениями, разрушающими все старые предрассудки. Проникшись идеей социализма, он сейчас же почувствовал энергию к проведению в жизнь своих убеждений, к влиянию на окружающую среду своих товарищей, знакомых, друзей и родственников. Затем он рассказывал, как, где и при каких условиях проводилась в жизнь идея социализма, где какие были личности, как они работали, как пробуждали спящие мысли, как постепенно развивалось, расширялось, углублялось движение этих мыслей и выливалось в форму растущего самосознания рабочего. При этом он всегда говорил:
«То, что я говорю,— только мои личные наблюдения о тех местах, где мне приходилось бывать самому. Эти наблюдения не широкообъемлющи и не полны: ведь я бывал и жил далеко не во многих местах». Итак, значит, повторяю, что передам воспоминания моего друга, начиная, как говорится, с первобытности
Хотя родом я и крестьянин и до 14 лет жил в селе, окружённом со всех сторон лесами, далеко от больших {16} городов, и только на 15 году мне первый раз в жизни пришлось увидать настоящий город, потом — другой, третий и, наконец, столицу, и ещё город, в котором мне пришлось осесть на жительство, тем не менее жизнь родного моего села, жизнь крестьянина-пахаря для меня является далеко не понятой, забытой и, очевидно, на всю жизнь заброшенной. Никогда мне не суждено будет вернуться к ней, не придётся возделывать того надела, владельцем коего я юридически состою. Другое дело жизнь городская, столичная жизнь заводская, фабричная жизнь мастерового-рабочего — вот это моё. Это для меня понятно и знакомо, близко и родственно. Семья рабочего — это моя семья, я её хорошо могу понимать и чувствовать; ничто в ней меня не удивляет, не возмущает и не поражает. «Всё так есть, так должно быть, и так будет!». Так я думал, когда ещё не жил по-настоящему, а прозябал, когда не задумывался над житейскими вопросами, жил единственным интересом скудного заработка, слабым предрассудком религиозности, но уже с туманным идеалом разбогатеть и зажить хорошо.
Небольшой город — вмещающийся в 2 квадратных верстах, окружённый водою, по одному побережью за строен солдатскими казармами, по другому — казённым судостроительным заводом и портом со множеством различных мастерских. Искусственный канал посреди города любовно захватил в свои объятия казённые склады; всюду; куда ни сунешься, всё — казённое, военное, солдатское. Этот город — Кронштадт. В нём-то, в этом Кронштадте, я впервые поступил на 15-м году на работу в торпедную мастерскую Кронштадтского порта и в течение трёх лет зарабатывал по 20 коп. в день или 4 руб. 40 коп. — 5 руб. в месяц. На эти деньги я должен был содержать себя, не имея возможности получить ниоткуда помощи.
Проработав в мастерской всего около 6 лет, я ни разу не видал ни листка, ни брошюрки нелегальной; да, очевидно, никто из остальных рабочих мастерской также ничего подобного не читал; но разговоры бывали, всякие, и особенно часто это происходило в одном помещении.
Говорили обо всём и даже о «государственных преступниках». Трудно передать, несколько интересны были эти разговоры и как трудно было в то же время понять {17} смысл этих разговоров, несмотря на то, что люди говорили очень интимно, не опасаясь ни шпионов, ни провокаторов, ни вообще доносов. Тут не было преступности против существующего строя, а были только одни смутные воспоминания, по слухам собранные сведения, часто извращённо понятые, и передавались они как нечто сверхнеобыкновенное, строго-тайное, преступное, очень опасное и потому тем более интересное, сильно приковывающее внимание.
Умственное напряжение слушающих субъектов в это время достигало наивысшей точки: вокруг царила необыкновенная тишина, нарушаемая лишь монотонным шумом вращающегося привода, особым лязганием скользящего на шкивах ремня, да в чуть приотворенную дверь слышался глухой шум от сотни работающих людей и от токарных станков, находящихся в движении. Не дай бог, если бы неожиданно, по какой-либо случайности, да появился жандарм или что-либо в этом роде; можно было бы ожидать сильного испуга и потрясения у невинных слушателей. Достаточно было кому-либо из администрации неожиданно появиться незамеченным, и у многих нот выступал на лбу от волнения — такой степени достигало нервное состояние.
Рассказчик бывало увлекался и говорил убедительно о каком-нибудь заговоре, подкопе, покушении, причём упоминал фамилию кого-либо из казнённых через повешение за городом. Не могу я теперь припомнить фамилии или лиц, про которых рассказывали; но впечатление всегда оставалось сильное. Вместе с этим оставалось непонятным: за что были казнены те люди и чего они добивались? При рассказах более понимающих и толковых людей можно было понять, что они (казнённые) что-то читали, и читали тайно, читали преступное и что не были дурными людьми, а заступались за рабочих; но некоторые рабочие объясняли и это заступничество за рабочих особой хитростью преступников.
Помню я, как рассказывали про одного офицера, которого привезли казнить. Рассказывали, как он держался перед казнью и прочее. Помню также рассказ про одного слесаря, работавшего в этой же мастерской и постоянно по воскресеньям уходившего за город на вал читать какие-то воспрещённые газеты; как потом сильно следили за ним, как приходили в мастерскую разные сомнительные {18} личности: один — одевшись попом, другой — каким-то чиновником, третий — мужиком и т. п., и все посматривали на этого слесаря. Он отлично догадывался об этих субъектах, и их приглядывания довели до того, что с ним произошло умственное расстройство.
Так, приблизительно, жил и работал я до 18 лет, когда я был признан по местным правилам за взрослого человека и был выведен из учеников в мастеровые. Очевидно, это правило осталось как часть ремесленных цеховых установлений. Итак, я сделался вполне взрослым человеком и в скорости получил самостоятельное и довольно сложное дело. Но это меня не радовало потому, что, как бывшему ученику, мне платили ничтожное жалованье. Я стал подумывать о том, как бы получить работу в другом месте; но это без протекции было не так легко, и я продолжал до поры до времени работать на старом месте. В конце концов мои желания как-будто начали осуществляться, и я собрался уже поступить в Петербурге на Балтийский завод. Однако, хотя я и получал много обещаний, но дело двигалось медленно, и мои угощения не производили того желаемого действия, на которое я рассчитывал;
В это время у меня произошла одна интересная встреча с рабочим-петербуржцем, который поселился в квартире, в которой я жил уже более двух лет. Присматриваясь к петербургскому рабочему, я начал понимать, что питерцы — очень хорошие работники; что хотя они довольно много выпивают, но зато, работая день и ночь, вырабатывают по восемьдесят и по сто рублей в месяц. Мне, с 18-рублёвым заработком в месяц, это казалось идеалом, к которому я должен был стремиться.
Оказалось, что я расположил петербуржца к себе, и вот у нас завязалась особая дружба, оставившая во мне надолго хорошее воспоминание о петербургском атеисте и социалисте-рабочем. Правда, он сам был бессознательный и не мог дать мне никакого сознания, но он смог вложить в меня часть своей инстинктивной ненависти и протеста против капиталистов и мелких паразитов на заводе. Работая целую неделю почти напролёт дни и ночи, к концу недели он совершенно ослабевал и в субботу от небольшой выпивки становился пьяным. Тогда мы уходили с ним куда-либо от людей и там-то старый, изработавшийся человек, разгорячившийся водкой, начинал постепенно {19} открывать мне истину и ту ненависть, которой была переполнена его душа...
— Ваня! — обращался он ко мне; — ты можешь достать этого яду, которым наш хозяин растравляет металл?
— Для чего тебе он понадобился?
— А вот что: у меня в деревне — жена и ребятишки, и дом есть, и вот я думаю поехать в деревню и хочу захватить с собой этого яду, чтобы отравить сначала всю скотину, попа и деревенского кулака, а потом и ещё что-либо устроить с ними. Я тебе скажу, что попы — самые вредные люди. Ты мне поверь, пьяному человеку, что ни какого бога нет, и всё это выдумка, чтобы дурачить нашего брата. Мастерам нужно глотку резать на каждом шагу, а деревенских попов и кулаков нужно всячески изводить, а то они не дадут никакого житья нашему брату.
Часто он говорил мне речи в этом роде.
— Ты сообрази,— продолжал он: — для чего нам эти живоглоты (монтёры)? Они отнимают только от нас лишние заработки да опивают нас и давят нас же, сидя у нас на шее.
Конечно, больше всего мой петербуржец ругал всю свору администрации, и я из этой ругани мог почерпнуть порядочную долю ненависти к притеснителям. Однако он не в состоянии был правильно развивать идеи атеизма и социализма, и благодаря этому я не проникся сознательно его взглядами и не чувствовал настолько глубоко ненависти, как он. А он, действительно ненавидел всякую несправедливость и, очевидно, душил свою злобу в пиве и в водке... Я после узнал, что он в скорости умер...
Желание моё, наконец, исполнилось, и я поступил на работу в Петербурге на завод. При поступлении мне удалось попасть на аккордную (штучную) работу. Наша партия состояла из 18 человек, и первое, что мне пришлось выполнить при моём поступлении, — это поставить своей партии спрыски, т. е. угощение; денег у меня не было, и потому старший, за поручительством всех членов нашей бригады, взял в долг четверть ведра водки, 5 штук селёдок, хлеба и несколько бутылок пива. Поздравить меня с поступлением на завод пришла вся партия и ещё, кроме своих, около пяти человек из других партий или отдельных лиц, соприкасающихся с работой нашей партии. Все мы собрались на одном дворе за воротами, образовавши кружок, в середине которого находилась выпивка и {20} закуска. Конечно, это было без всякой претензии на какой-либо элементарный комфорт; один держал водку, другой хлеб, третий селёдки, которые, будучи порезаны на куски, сейчас же были разобраны по рукам. Старший взял в руки стакан, налитый живительной влагой, поздравил меня приличным образом с поступлением и этим открыл процедуру спрысок. Минут через 5—10 мы разошлись, и, уходя со двора, я чувствовал себя вполне признанным членом той партии, которую только что угостил, израсходовав на это два рубля е половиной. Хотя этот обычай слишком несимпатичен, но я и сейчас не могу относиться к нему с особой ненавистью. На этих спрысках всегда люди как-то чувствуют себя близкими друг другу, у них является желание поговорить о своих делах и о злободневных вопросах; на этих же спрысках довольно часто учили старших бригадиров за их длинные языки, кляузничество.
Следы этого учения иногда оставались недели на две под глазами у старших. Бывали, конечно, случаи, когда старшие совершенно отказывались идти на такого рода угощения, ретиво оберегая свою особу.
Итак, я работаю в Петербурге на заводе С.[Семянниковском — Ред.], работаю в партии на «штучной» работе, заработок которой зависят не от отдельного лица, а от коллектива личностей, принимающих участие в этой партии. Работать в такой партии надо умеючи, нужно быть смелым, уметь за себя постоять, в противном случае заедят или, как говорят, выживут из партии, а это довольно чувствительно, ибо в партии получался % на рубль, доходивший до 50—60 коп.; вне партии, никакого процента не получалось.
Работая в Кронштадте, я чувствовал, что работа меня нисколько не обременяет, уставать от работы редко когда приходилось; работая подённо, человек не измучается, не так скоро истреплет свою жизнь. Совсем не то — работа сдельная, поштучная: на этой работе человек себя не жалеет, он положительно забывает о своём здоровье, не заглядывает вперёд своей жизни, никогда не задумывается, как влияет работа на продолжительность его жизни.
Нет! Он гонит и гонит работу вперёд, пот градом льётся с него, и не обтёртая капля тяжело шлёпается на его работу, вызывая его неудовольствие и ругань, порывистое {21} движение рукавом по лбу сейчас же следует за этим, и опять работа, работа спешная, торопливая и всё для того, чтобы получить лишнюю копейку процента на рубль.
Ещё хуже в партии, где каждый следит друг за другом. Особенно трудно, когда
нескольким рабочим даётся для работы одинаковая вещь: тут уже всякий проявляет
самую наивысшую, какая только возможна, степень интенсивности. При таких работах
рабочие положительно зарывают1 своё
здоровье. Постоянно попадаются один или два более ловких, которые гонят работу
вперёд остальных, другие, из сил выбиваясь, стараются не отстать и даже боятся
пойти по естественным надобностям, дабы не упустить лишних минут, в которые их
могут обогнать в работе.
На такую-то работу попал и я, и хотя не особенно был смирным, но защита была
всегда не лишней. Защитить же меня взялся товарищ — сосед по работе, уже очень
пожилой семейный человек, но с натурой протестующей; к несчастью, он был
неграмотным человеком.
Мы с ним жили очень дружно, он часто рассказывал про разные бунты и про то,
как доктора и. студенты во время холеры морили народ, и как их народ бросал в
Неву с Николаевского моста. Припоминая его теперь, я положительно удивляюсь тому
сочетанию взглядов, какие в нём были. Он помнил ту литературу, которую
народовольцы раскидывали на заводе, и то, как эту литературу читали по
застенкам; и хотя сам был неграмотный, но всецело стоял своими симпатиями за
людей, распространявших такую литературу. Иногда таинственно сообщал мне на ухо
про убийство царя, говоря, что, мол, его за дело убили, и только народ не
понимает это, а без царя жизнь можно устроить лучше теперешней. Нужно ли
говорить, что он ненавидел монтёров и разных старших и эту ненависть переливал в
меня и разжигал её сильней и сильней.
Первый год работы на заводе меня удовлетворял, несмотря на то, что, как можно
выразиться, я не жил, а только работал, работал и работал; работал день, работал
{22} вечер и ночь и иногда дня по два не являлся на
квартиру, отстоявшую в двадцати минутах ходьбы от завода. Помню, одно время при
экстренной работе пришлось проработать около 60 часов, делая перерывы только для
приёма пищи. До чего это могло доводить? Достаточно сказать, что, идя иногда с
завода на квартиру, я дорогой засыпал и просыпался от удара о фонарный столб.
Откроешь глаза и опять идёшь, и опять засыпаешь и видишь сон вроде того, что
плывёшь на лодке по Неве и ударяешься носом в берег, но реальность сейчас же
доказывает, что это не настоящий берег реки, а простые перила у мостков.
Так работая, не видишь никакой жизни, мысль ни на чём не останавливается, и
все желания сводятся к тому, чтобы дождаться скорее какого-либо праздника, а
настанет праздник, проспишь до 12 или до часу и опять ничего не увидишь, ничего
не узнаешь и ничего не услышишь, а завтра опять работа, та же тяжёлая,
продолжительная, убийственная работа и никакой жизни, никакого отдыха.
И оказывается для кого всё это? Для капиталиста! Для своего отупления!
Отрадой может служить лишь то, что не понимаешь этого и тогда не чувствуешь
ужасного гнёта и бесчеловечности.
Так, в общем, текла безжизненно и печально та жизнь, которой живёт
большинство людей. Иногда приходилось кое-что слышать, но не понимая и не
разбираясь в этом.
На этом я закончу описание своей жизни до превращения из самого заурядного
числительного человека без строгих взглядов и убеждений в человека-социалиста.
Однажды, в такой же день, как и в бесчисленные дни раньше, когда так же
монотонно вращались приводы и скользили ремни по шкивам, так же всюду по
мастерской кипела работа и усиленно трудились рабочие, так же суетливо бегал
мастер, появляясь то в одном, то в другом конце мастерской, и не менее суетливо
вертелось множество разного рода старших дармоедов, я стоял у своих тисков на
ящике и, навалившись всем корпусом на 18-й [18-дюймовый.— Ред.]
напильник, продолжал отделывать хомут для эксцентрика паровоза. Так же и такие
же хомута отделывали и ещё два слесаря, и мы старались во всю мочь, засучивши по
локоть рукава рубашки и {23} снявши не только блузы, но и
жилеты. Пот выступал на всём теле, и капли одна за другой шлёпались и на верстак
и на пол, не вызывая ничьего внимания.
И при таком трудолюбии никто и никогда не придёт и не скажет ни похвалы, ни
порицания, никто не посоветует отдохнуть от надоедливой и тяжёлой работы.
День клонился к окончанию работ, и многие уже начинали посматривать по
сторонам, желая подметить, нет ли движения к прекращению работ; так как день был
субботний, то работу заканчивали обыкновенно минут за 10—15 до заводского гудка
об окончании работ.
— Будет стараться-то, всё равно всей работы не переработаешь! — раздался
около меня голос незнакомого слесаря из другой партии, такого же молодого
человека, как и я. Я поднял голову и, выпрямившись всем корпусом, по привычке
осмотрелся во все стороны, желая подметить малейшую опасность со стороны
какой-либо забегалки, но таковых нигде не оказалось, и я, смотря на него,
ответил:
— ...мы на пару2
работаем, и потому я не желаю идти в хвосте других.
— Завтра воскресенье, как ваша партия — будет работать или нет? — начал
политично Костя (так я буду называть моего товарища), видимо, заранее подметив
меня как желанного субъекта для направления на светлый энергичный путь борьбы за
свободу, равенство и братство. Этими идеями он только что проникся сам и
почувствовал сильный прилив проповеднической энергии.
— Нет, завтра у нас никто не работает,— отвечал я.
— Что же ты делаешь в свободное время дома?
— Да ничего особенного. Вот устраиваем скоро вече ринку с танцами,— начал
было я рассказывать, в надежде привлечь его к участию в весёлом
времяпровождении.
— А у тебя книги какие-нибудь есть? — спросил он.— Ты читаешь ли когда
что-нибудь?
Я смутился от сознания, что давно ничего не читал, хотя и обладал десятком
книг. Но я их не понимал, и потому они лежали у меня на маленькой этажерке как
приличное украшение комнаты молодого человека.
{24}
Однако я сообразил, что Косте может кое-что понравиться из моих книг, и
потому предложил ему познакомиться с ними, придя как-нибудь вечером или в
воскресенье. Костя охотно согласился на моё предложение и, немного помолчав,
предложил мне познакомиться с ним поближе, и тут же попросил прийти к нему на
квартиру завтра после обеда. Я обрадовался предстоящему знакомству. Хотя в то
время знакомых у меня было уже достаточно много, но совершенно не было таких,
каким мне представлялся Костя. С работы мы пошли вместе. Он часто отбегал от
меня, чтобы кое с кем поговорить, снова возвращался ко мне и, наконец, указал
дом, в котором он жил. Мы дружески расстались, и я дал обещание на другой день
непременно быть у него.
Около часу дня в воскресенье я направился к Косте и без труда разыскал
квартиру, в которой он жил. Хозяйка добродушно указала его комнату, куда я и
вошёл. Комната была небольшая, квадратная. Кроме хозяина в ней сидело два
молодых человека: одного из них я хорошо знал, так как он работал в одной партии
с Костей, а другой был, кажется, его братом. Я сел, мы перекинулись парой слов,
и разговор совершенно прекратился. В это время Костя вынимает откуда-то печатный
листок, поддаёт его одному из товарищей и просит прочитать. Товарищ берёт и
читает листок, а мы все трое сидим молча. Так как я не знал содержания этого
листка, то и не обращал особенного внимания на то, как читает его товарищ и
какое действие производит листок на читающего, но Костя и другой товарищ
присматривались к читающему как-то особенно и чувствовали себя, повидимому,
очень напряжённо. Все молчали, наконец товарищ прочёл, сложил листок и передал
его Косте, делая всё это молча; я думал, что тут какое-то личное дело, о котором
мне знать не следует.
— Ну, что? как? — спросил Костя, обращаясь к товарищу, который чувствовал
себя как будто очень смущённым.
— Что ж, очень хорошо,— ответил тот и замолчал. Настало опять молчание, и
какое-то тягостное.
— Может, хочешь почитать? Так почитай,— сказал Костя, подавая мне листок.
Я развернул и приступил к чтению. С первых же слов я понял, что это что-то
особенное, чего мне никогда в течение {25} своей жизни не
приходилось видеть и слышать. Первые слова, которые я прочёл, вызвали во мне
особое чувство. Мысль непроизвольно запрыгала, и я с трудом начал читать дальше.
В листке говорилось про попов, про царя и правительство, говорилось в
ругательской форме, и я тут же каждым словом проникался насквозь, верил и
убеждался, что это так и есть, и нужно поступать так, как советует этот листок.
У меня уже вырисовывалось в голове, что вот меня казнят за совершённое
преступление, и вся жизнь пойдёт прахом. Тут же, как молотом, ударило по моей
голове, что никакого царствия небесного нет и никогда не существовало, а всё это
простая выдумка для одурачивания народа.
Всему, что было написано в листке, я сразу поверил, и тем сильнее это
действовало на меня. С трудом дочитывал я листок и чувствовал, что он меня
тяготит от массы нахлынувших мыслей. Так как нужно было его возвращать сейчас
же, то подробное содержание листка в памяти не сохранилось, но смысл глубоко
врезался в моём мозгу, и отныне я навсегда стал антиправительственным элементом.
Листок был народовольческий; это было первое произведение нелегальной
литературы, из которого я вычитал впервые откровенные слова против
правительства. Я молча передал листок Косте, сразу уразумел цель моего
приглашения и решил, что нужно жертвовать для этого дела всем, вплоть до своей
жизни. Я был уверен, что Костя, смотрит на это дело такими же глазами, как и я,
и уже по тому одному мы с ним являемся братьями, но как смотрят и думают другие
два товарища, я не знал и потому молчал, как и они, выразивши, впрочем, свою
радость и удовольствие по поводу листка, как умел.
Немного погодя оба товарища ушли. Мы остались вдвоём, и тогда у нас завязался
дружеский разговор: очевидно, я внушал Косте доверие, и потому темой нашего
разговора было обсуждение вопросов, как нам достать ещё таких произведений и
хороших книг, дабы по возможности подвинуться вперёд в своих знаниях. Костя
начал было объяснять мне библию, которую он хорошо помнил, так как до последнего
времени был глубоко религиозным человеком и сидел на божественных книгах. Он
старался объяснить богословские учения как учения социалистические только
извращённые современными попами. Однако Костя не обладал даром слова и потому
{26} не мог увлечь меня далеко в эту сторону. Затем мы
пошли с ним на мою квартиру и тщательно осмотрели находящиеся у меня книги, Я
старался найти в них что-либо хорошее, но так как мои вкус ещё был довольно
сомнителен для нас обоих, то мы решили в следующее воскресенье пойти, вместе и
поискать на базаре хороших книг. Конечно, я, расспросил у Кости, каким образом
попал к нему нелегальный листок. Он объявил, что как-то вечером, выходя по
окончании работы из мастерской, в толпе других рабочих, он был остановлен одним
человеком, который сунул в дверях мастерской ему листок со словами: «Поди,
ничего дома-то не делаешь, на-ко вот, прочти это». И действительно, Костя прочёл
и едва дождался утра, чтобы поговорить с этим человеком.
Вскоре и я был познакомлен с человеком, который, сунул Косте листок. Конечно,
ему было известно о прочтении листка мною, о том отношении, которое я проявил к
дотоле неизвестному для меня делу революционных воззрений и поступков, о моём
желании учиться, учиться и действовать так, как мне укажут, стараясь уже по
возможности, привлекать и пропагандировать при всяком удобном случае подходящего
человека.
Я догадывался о человеке у нас в мастерской, руководящем этим делом, потому
что видел несколько раз, как Костя беседовал с ним. Раз во время работы мы с
Костей подошли к нему, и я был представлен Костей как товарищ по убеждениям.
Человек, которому я был представлен, был рослый, представительный мужчина, с
проникающим насквозь суровым взором. Его взгляд пронзил меня до самого нутра, и
я не на шутку растерялся, виновато смотря ему в лицо несколько мгновений, а
потом потупился, чувствуя, что на меня навалилась какая-то тяг жесть. Изредка я
осмеливался приподнять глаза и украдкой смотрел на подавляющего меня человека.
Окладистая большая русая борода вызывала у меня особое почтение и уважение к
этому человеку, но, встретившись с его взглядом, я делался опять бессильным и
немощным. И как странно все это вышло? Раньше, видя этого человека, проходя
мимо, я положительно не обращал на него внимания и не чувствовал ничего
необыкновенного. Он в моих глазах был самым обыкновенным человеком. Но теперь,
когда я сам хочу быть иным и вижу перед собою человека сознательного,
энергичного, смелого, желающего {27} проникнуть в
искренность моей души, узнать мою решимость и твёрдость характера, узнать
искренность моих желаний,— под этими настойчивыми взглядами я чувствовал
какую-то особую жуткость и не смел произнести ни слова. Такое впечатление
произвёл на меня Ф. Идя к его станку, я ожидал услышать от Ф. что-либо особенно
умное, но он на первый раз отпугнул меня своими суровыми словами и вопросами.
— Ну что? о чём думаешь?
— Да книжку бы какую-либо умную достать,— пробормотал я.
— На что тебе она? что ты будешь делать, если прочитаешь не одну умную
книжку?
— Плохо,— говорю,— вот, что нас обижают и правды не говорят, а всё
обманывают.
— А что ты будешь делать, если правду узнаешь?
Я, конечно, молчал, не зная, что отвечать на подобные вопросы, и пошёл к
своим тискам, обдумывая более всесторонне заданные мне вопросы. Конечно, я был
недоволен тем, что Ф. не сказал чего-либо сам, а заставил меня ломать голову над
вопросами, которые я не понимал как следует и которые были мне чужды, но я
объяснил всё это тем, что меня желают испытать. Мне было несколько обидно за то
недоверие, которое я усмотрел в этом отношении, но я был уверен, что всё узнаю и
всего достигну. С Костей мы сделались неразрывными друзьями.
Всегда и всюду мы были вместе, постоянно обсуждая разного рода вопросы. Скоро
у нас появились нелегальные книжки, большей частью народовольческие, и мы
положительно ими зачитывались, стараясь затем тщательно припрятать, чтобы они не
попались кому-нибудь на глаза.
К этому времени круг знакомых у нас начал расширяться, и всякое воскресенье
или мы заходили к кому-нибудь, или к нам приходили. Образ жизни сильно
переменился, что не оставалось незаметным для окружающих как на квартире, так и
в заводе, но мы мало обращали на это внимания, продолжая увлекаться новым делом.
Разумеется, как только мы замечали, что собеседник начинает соглашаться с нами в
разговорах, мы сейчас же старались достать ему для чтения что-либо из
нелегального; но в знакомстве с новыми людьми мы были очень разборчивы. Прежде
всего мы старались обходить или {28} избегать всякого, кто
любил частенько выпивать, жил разгульно или состоял в родстве с каким-либо
заводским начальством. Будучи сами очень молодыми, мы подходили чаще всего к
такой же молодёжи, а одна или две неудачи совершенно отпугнули нас от людей
женатых, средних или выше средних лет, таким образом, выбор оказывался довольно
незначительным.
Часто приходилось слышать, как рабочий рассказывал про старую работу
революционеров, как их арестовывали и сажали в какие-то каменные мешки, мололи,
секли и т. п., но больше всего приходилось слышать о том, как людей хватали, и
они пропадали безвозвратно неизвестно где. Иногда приходилось вступать в прения
с рабочими, верившими до фанатизма в свои собственные рассказы, и не всегда мы
выходили победителями из такого рода споров. Конечно, есть доля основания в
создании подобного рода рассказов. Хотя бы взять во внимание, что часто
происходили аресты интеллигентов, живших среди рабочих, и потом не было от них,
ни об них никаких вестей, и потому фантазия тёмных, рабочих создавала разного
рода рассказы фантастического содержания, которые передавались от одних к
другим, дополняясь произвольно всевозможными ужасами. Эти ужасы служили всегда и
служат теперь отпугивающим средством для всякого мало-мальски суеверного и
недалёкого человека, которому ещё непонятно рабочее движение. Мы с товарищем
старались избегать разговоров и споров с распространителями подобных, фантазий,
но охотно слушали рассказы о том, как раньше происходили бунты и волнения на С.
заводе и как там всюду по застенкам читали подпольные книжки в былые годы (в
семидесятых и восьмидесятых годах).
Ближе знакомясь с разного рода нелегальной литературой, с людьми
революционных убеждений, разговаривая с товарищами на те же темы, создавая
всевозможные планы изменения всего строя жизни, при строгом разборе не
выдерживающие критики, мы жили в постоянном волнении. Та жизнь, которая ранее
казалась нам самой обыкновенной, которой мы раньше не замечали, давала нам всё
новые и новые впечатления.
К тому же времени в нас зарождается сознательная ненависть и к сверхурочным
работам. Идя перед вечером через мастерскую нижним этажом, мы с озлоблением
{29} смотрели на висевший у стены фонарь, в котором горела
свеча, а на стёклах была надпись: «Сегодня полночь работать от 7 часов
вечера до 10 1/2 часов вечера» или «Сегодня ночь работать от 7 1/2
часов вечера до 2 1/2 часов дня». Эти надписи чередовались изо дня в день, т. е.
сегодня полночь, завтра ночь. Таким образом приходилось
вырабатывать от 30 до 45 рабочих дней в месяц, что на своеобразном остроумном
языке семянниковцев выражалось так: «у меня или у тебя в этом месяце больше
дней, чем у самого бога», и действительно, несчастными полночами и ночами иногда
нагоняли в течение месяца до 20 лишних дней.
Сколько здоровья у каждого отнимали эти ночные работы, трудно себе
представить. Но дело было обставлено настолько хитро, что каждый убеждался во
время получки, что если он работал мало ночей или полночей, то и получал меньше
того, который не пропускал ни одной сверхурочной работы. Расплата производилась
так: общий заработок всей партии делился на количество дней, а остаток суммы уже
делился как проценты к заработанному рублю. Хорошо, если работа ещё не особенно
спешная, тогда при желании можно было уходить домой по окончании дневной работы;
но если работа спешная и мастер заставляет работать всю партию, тогда злой
иронией и как бы насмешкой звучит заводский гудок об окончании работы. Он только
говорит, что ещё осталось столько-то часов работать ночью и что твой номер
заботливо снят с доски и отнесён в контору к мастеру, а без номера из завода не
выпустят. Идти же к мастеру — это в большинстве случаев безрезультатно: или
выйдет стычка с мастером, или даже расчёт. Одна и та же история повторялась изо
дня в день. Рабочие ругались на всевозможные лады, проклиная работу, и всё же
принуждены были работать ночные часы. Мы с Костей часто работали в ночное время
до знакомства с нелегальной литературой, не чувствуя особой тягости и не
сознавая разрушающего действия этой работы на наше здоровье, но теперь ночная
работа нас сильно тяготила, и мы начали от неё отлынивать под разными
предлогами. В то же время мы агитировали среди мастеровых против ночной работы,
доказывая её вредность.
Живя заводской жизнью, мы с Костей совершенно не знали жизни фабричных
рабочих. Лично я жил довольно {30} хорошо как в
гигиеническом, так и в экономическом отношениях. Рассказы одного из товарищей —
молодого парня, работавшего раньше на фабрике и имевшего привычки и вид
фабричного, заинтересовали нас. Нам захотелось увидеть и поближе узнать эту
неведомую для нас жизнь. Мы решили приобрести товарищей на фабриках, чтобы иметь
возможность ходить туда и вести среди фабричных пропаганду. Постепенно мы
узнавали про фабрику и жизнь на ней, про порядки, какие там существуют, и т. п.
Однажды, рассказывая про жизнь на фабрике, товарищ упомянул о новом доме,
выстроенном фабрикантом для своих рабочих, говоря, что дом этот является чем-то
особенным в фабричной жизни рабочих. Однако трудно было понять, что это за дом.
Не то он какой-то особенный по благоустройству, не то это просто огромнейшая
казарма, в которой всюду пахнет фабрикой, в которой хорошее и дурное, приятное и
скверное перемешано в кучу, не то это прямо дом какого-то ужаса.
И вот мы с Костей решили в воскресенье же пойти и подробно осмотреть этот
дом, жителей и всё прочее, но, помня, что посторонним трудно проникнуть в
фабричное помещение, мы решили подделаться под фабричных. В субботу вечером я
отправился на Александровский рынок, купил простую кумачёвую рубаху с поясом,
подходящую фуражку и в воскресенье, одевшись фабричным парнем, неловко и
крадучись, вышел из квартиры, направляясь к Косте. Оттуда также смущённо,
опасаясь обратить внимание на свой костюм, мы направились по Шлиссельбургскому
тракту к максвельским фабрикам, куда и добрались через полчаса.
Саженях в 40 от проспекта виднелось внушительное каменное здание, ещё
совершенно новое по своему наружному виду. Должно быть, это и есть — решили мы с
Костей — и по узенькому переулку, по проложенным рельсам направились к
заманчивому обиталищу. Очутившись во дворе, мы увидели группы рабочих и
работниц. Мужчины, большей частью молодые, стояли кучками и о чём-то, видимо,
толковали, делая энергичные движения руками; девушки местами сидели, отделившись
от остальных, местами болтали с парнями, часто вскрикивая и отбегая в сторону,
но тотчас же возвращаясь к своему кружку. Вся эта толпа парней и девушек живо
напоминала порядочное село какой-нибудь губернии. Девушки бросались в глаза
{31} яркостью своих костюмов, совершенно отличных от
городских, особенно от столичных, а молодые парни были в сапогах бутылками, с
гармонией и с брюками за голенищами; многие бросались в глаза слишком большой
простотой своего костюма, разгуливая по двору в простых ситцевых полосатых
подштанниках, в кумачёвой или ситцевой серенькой рубахе, подпоясанной незавидным
пояском, на ногах простые опорки на голу ногу, И нисколько этим не смущались
сами и не смущали никого из присутствующих. Простота таких костюмов произвела на
меня неприятное впечатление, хотя была довольно знакомой картиной, напоминая
смоленских плотников в Кронштадте.
Мы решили прежде всего осмотреть внутренность самого здания и потом уже
походить по двору и потолкаться среди самих фабричных. Широкая дверь в середине
фасада здания вела во внутрь, да и народ входил и выходил каждую минуту через
эту дверь, поэтому и мы направились в неё же. Громаднейшая широкая лестница
показывала, что здание приспособлено для большого количества жителей; стены были
вымазаны простой краской, но носили следы чистоты и опрятности, здоровые
чугунные или железные перила внушали доверие к солидности и прочности здания. Мы
поднялись на одну лестницу и вошли в коридор, в котором нас, как обухом по
голове, ударил скверный, удушливый воздух, распространявшийся по всему коридору
из антигигиенических ретирадов. Не проходя по коридору этого этажа, мы поднялись
выше, где было несколько свежее, но тот же отвратительный, удушливый запах был и
здесь. Пройдя часть коридора, мы вернулись и поднялись ещё выше этажом. И там
было не легче, но мы решили уже присмотреться ближе, поэтому прошли вдоль по
коридору и зашли в ретирадное место для обзора, потом, набравшись смелости,
начали открывать двери каморок и заглядывать в них. Повидимому, это никого не
удивляло, и нас не спрашивали, кого мы ищем.
Отворив, таким образом, двери одной каморки и никого там не застав, мы
спокойно взошли и затворили за собою дверь. Нашим глазам представилась вся
картина размещений и обстановки этой комнаты. По правой и левой стороне около
стен стояло по две кровати, заполнявшие всю длину комнаты почти без промежутка,
так, что длина комнаты как бы измерялась двумя кроватями; у окна между кроватями
Стол и невзрачный стульчик; этим и ограничивалась {32} вся
обстановка такой каморки. На каждой кровати спало по два человека, а значит
всего в комнате жило 8 человек холостяков, которые платили или вернее с которых
вычитали за такое помещение, от полутора до двух рублей в месяц с каждого.
Значит такая каморка оплачивалась 14 или 16 рублями в месяц; заработок же
каждого обитателя колебался между 8 и 12—15 рублями в месяц. И всё же фабрикант
гордился тем, что он благодетельствует рабочих, беря их на работу с условием,
чтобы они жили в этом доме, если только таковой не набит битком.
Мы вышли из каморки и заглянули ещё в несколько. Bсe каморки были похожи одна
на другую и производили угнетающее впечатление. У нас пропала охота осматривать
дальше — общую кухню, прачечную и помещения для семейных, где серая обстановка
скрашивалась лишь одеялом, составленным из бесчисленного множества разного рода
лоскуточков ярких цветов и которое покрывало кровать, завешенную пологом. Полог
служил двум целям: с одной стороны, он должен был прикрыть нищету, с другой — он
удовлетворял чувству элементарной стыдливости, ибо рядом стояла такая же
семейная кровать с такой же семейной жизнью. Всё это было слишком ужасно и
подавляло меня, заводского рабочего, живущего более культурной жизнью, с более
широкими потребностями.
Мы двинулись к выходу. На огромной лестнице мы остановились и рассматривали
автоматические приспособления для тушения пожара. Но все эти шланги, свинцовые
трубы и приспособления не могли внушить к себе ни симпатии, ни доверия; эти
блестящие медные краны и гайки не могли сгладить впечатления от голых,
неопрятных, скученных кроватей и от стен, на которых подавлено и размазано
бесчисленное множество клопов. Сзади слышен стоном стонущий гул в коридоре,
отвратительный воздух беспрестанно надвигается оттуда же, и всё сильней и
сильней подымается в душе озлобление и ненависть против притеснителей, с одной
стороны, и невежества — с другой, не позволяющего уяснить причины маложеланного
существования.
О! Нужно как можно больше знания нести в эти скученные места.
Облегчение вносила лишь мысль, что всё же в этом есть кто-то, кто занимается
с рабочими, и, может {33} быть, среди собравшихся на дворе
рабочих есть уже сознательные люди, число которых будет увеличиваться день ото
дня. Костя даже начал вслух делать арифметические вычисления по поводу
прогрессивного роста развивающихся личностей, но доверяться таким вычислениям
нельзя, они могут иногда привести к сильным разочарованиям, и потому желательно
быть скорее пессимистом, нежели оптимистом. Но это мимоходом.
Выйдя на двор и вдохнувши свежего воздуха, мы направились к одной кучке
рабочих. Оказалось, что тут шла азартная игра в орлянку, и почти все стоявшие
принимали в ней активное участие. Лица у всех были сильно напряжены, слышались
ругательства, и нам казалось, что скоро дело дойдёт до драки с кровавыми
последствиями. Мы перешли к другой кучке,— тут играли в карты на деньги, и та же
ругань висела в воздухе. Кучки девушек и парней не могли нас расположить
вмешаться в их среду, ибо нужно было обладать уменьем подойти к деревенской
красавице и вести беседу на интересную для неё тему, что было далеко не
безопасно для лиц, неизвестно откуда явившихся. Поэтому мы посмотрели на них
издалека и пошли бродить дальше по траве огромного двора; осмотрели сараи,
погреб и ещё кое-что не особенно интересное и направились домой из этого
своеобразного фабричного мира с тяжёлым впечатлением о виденном и о том, что
люди в этой обстановке чувствуют себя, очевидно, очень счастливыми после
деревенской жизни. Это было наше первое сознательное знакомство с жизнью
фабричных рабочих. Тяжёлое впечатление у меня осталось надолго в памяти.
Впоследствии, уже в другом месте, фабричная жизнь меня положительно возмутила, и
я не в состоянии был объяснить себе той выносливости и ничтожных потребностей,
какими может ограничить себя человек, чувствуя себя в то же время довольным этой
жалкой нищенской полуголодной жизнью.
Вот стена, которую приходится разбивать лбами, и не один ещё десяток лбов
расшибётся об неё, пока она начнёт хоть сколько-нибудь поддаваться. Впечатление
от виденного было очень сильным, но руки наши от этого не опустились, наоборот,
энергия к работе над своим развитием усилилась, желание скорее вступить в борьбу
со столь ужасными приёмами эксплуатации, со столь ужасной забитостью и темнотой
народа, увеличивалось, и мы {34} усердно принялись точить
оружие для борьбы, т. е. читать и развиваться.
Понятно, что без посторонней помощи, сами, мы далеко не так быстро уяснили бы
себе многие вопросы, наши знания были очень недостаточными, а столкновения,
споры при нашей пропаганде становились очень часты, и мало-мальски ловко
поставленный вопрос нашего противника ставил нас в тупик, и, хотя мы были
убеждены в справедливости своих слов, тем не менее чувствовали своё поражение.
Помню хорошо, как мы с Костей пришли к странному заключению по одному
экономическому вопросу. Вопрос относился к сдельной работе. Пропагандируя и
агитируя кого-либо, мы часто ставили ему выработанный нами вопрос: что полезнее
для рабочих при данных условиях: трудолюбие или леность? — Получали ответ, что
первое всегда полезнее. Тогда мы начинали доказывать противнику, что, если
особенно стараться в работе, то можно, 1) скоро достигнуть этим понижения
расценок и 2), что один рабочий выполнит работу за двоих, таким образом большая
часть рабочих окажется без работы, что в свою очередь будет влиять на ещё более
сильное понижение расценок, и т. д. Другое дело, если работать тихо, не
торопясь,— тогда расценки скорее повысятся, или по крайней мере не упадут, а так
как работа будет выполняться медленнее, то потребуется добавочный комплект
рабочих, и благодаря этому будет меньше безработных и плата подымется. Выходило
так, как будто мы правы, но соглашались с нами неохотно, хотя и не находили
аргумента для возражения. И мы сами, чувствуя себя победителями, не могли в то
же время примириться с мыслью, что лентяй более полезен для общества, нежели
человек трудолюбивый, и никак не могли выйти из этого затруднительного
положения. Такие вопросы возникали всё чаще и чаще, и мы стали обращаться за
разъяснениями к Ф. Ф. Видя, что мы сильно прониклись духом социализма, и не имея
возможности и времени с нами часто беседовать, он поручил нас одному из своих
друзей, живущему неподалёку от нас. Наш новый руководитель оказался человеком
очень неглупым и произвёл на нас очень хорошее впечатление. Понятно, что, как
только выдавался свободный момент, мы стремились к нему за объяснениями. Кроме
того, нас притягивала к нему, как магнит, обстановка его домашней жизни.
Отдельная квартира, обставленная довольно {35} уютно во
всех отношениях, рисовала нам картину будущего нашего устройства. У нашего
нового знакомого всегда было достаточно для нас, во-первых, книг и, во-вторых,
советов об осторожности. Мы знали, что он состоит и кассиром в организации и
служит связующим звеном между городом а нами, что он знаком с интеллигенцией и
вообще со всем движением, а следовательно, мы от него сможем многому научиться и
услышать от него те хорошие мысли и. ответы на наши вопросы, которые нас так
волновали. И действительно, первое время он производил на нас обоих самое
благотворное влияние. Больше всего он развивал в нас аккуратность и осторожность
в сношениях с людьми и всегда при вашем приходе к нему задавал нам вопрос,
осторожно ли мы пришли, не притащили ли за собою шпиона. Возможно, что, опасаясь
за себя, под влиянием жены, он постоянно твердил нам о всяких шпионах, обысках и
слежке. Но нам это было полезно, мы приучались строго посматривать за собой,
хотя, повидимому, никто не думал за нами следить. Мы стали вести себя аккуратнее
на заводе. Постепенно мы вводились в круг всякого рода дел, и нам даже стали
показывать отчёты. Красного Креста, кроме того, давали много хороших книг и
всякую имевшуюся нелегальщину.
Так прошла часть зимы, весна и уже проходило лето. Близилась осень, ас ней
приближалось ожидаемое с нетерпением открытие воскресной школы, о которой мы уже
много наслышались. Нам говорили о ней много хорошего: что в ней хорошо можно
подбирать людей и, главное, можно получить знания, что в ней все учительницы,
учат даром, т. е. исключительно только ради того, чтобы нести в народ знания,
что они готовы претерпеть за народ всевозможные притеснения и преследования
правительства. Костя и я отлично уже понимали, что это будут за учительницы, и
потому так ожидали этой школы. Мы старались подговаривать других, чтобы они тоже
записались, в школу, но большинство отвечало, что вечерняя и ночная работа не
позволит ходить в школу, и в этом было много, правды. Особенно мешала сменная
работа, но тем, не менее мы подговорили записаться в воскресную школу не менее
пятнадцати человек. Но о школе потом, теперь вернусь опять к началу знакомства с
нелегальной работой.
Отпугнувший меня на первых порах Ф., конечно, не оставил нас без внимания. Он
старался при всяком {36} возможном удобном случае влиять на
нас и растолковывать непонятные для нас вопросы. Он производил на нас сильное
впечатление, и мы его прозвали Патриархом, чувствуя к нему особое уважение.
Помню, что как-то в скорости по прочтении первого нелегального листка мы с
Костей отправились к Ф. на квартиру. Это было тёмное помещение, кажется, в две
комнаты, по цене очень дорогое, но ужасное по своему внутреннему виду, что
особенно сильно на меня подействовало. Помню, что я для такого случая оделся
довольно прилично: в крахмальную рубашку и т. п., но как квартира, так и
обитатели её как бы, говорили против моего костюма, и я почувствовал себя
неловко, виновато, проклиная свою крахмальную рубашку. Я решил на следующий раз
одеться попроще, да подумывал уже и совсем забросить эту щеголеватость, хотя
впоследствии изменил такое решение.
В этой же квартире я впервые в моей жизни встретился с интеллигентом,
которого мы называли П. И. Он оставил во мне навсегда самые наилучшие
воспоминания о себе; он был первым человеком из тех, кого я знал, который шёл к
рабочим исключительно с целью нести им знания и понимание жизни, подвергаясь за
это всяким лишениям.
Трудно передать, как глубоко мы с Костей ценили этих людей, особенно если
взять во внимание, что мы, неразвитые люди, не могли не чувствовать удивления
тому, что люди из другой среды бескорыстно отдают нам знания и пр. И после более
близкого знакомства с другими интеллигентами и учительницами мы ещё долго не
могли отделаться от этого чувства. Как тяжело было терять кого-либо из таких
интеллигентов, за которых готов был бы понести что угодно, всевозможные тягости
и лишения. Конечно, постепенно, часто встречаясь с интеллигентами, теряешь то
особое чувство к интеллигенту, как к особенному человеку, а одинаково чувствуешь
потерю, как близкого товарища-рабочего, так и товарища-интеллигента, но это уже
получается спустя продолжительное время знакомства с интеллигенцией, когда
острое чувство, получаемое при первой встрече, притупляется, низводясь на
обыкновенное искреннее чувство.
Как жадно мы с Костей прислушивались к разговорам во весь этот вечер первой
встречи с П. И. у Ф., как {37} страшно хотелось нам
сделать что-либо особенное, но что именно — мы не знали и виновато смотрели,
жадно вслушиваясь в разговор. Кроме нас было ещё человека три и потом хозяин
комнаты Ф.; помню ещё одного человека, который, как оказалось, сделался
впоследствии провокатором,— это был Козлов. Он пользовался особым доверием у нас
с Костей, но только в самом начале нашего знакомства.
Я затрудняюсь теперь передать, насколько резко отличались наши взгляды от
народовольческих тенденций, но что эти отличия проявлялись, то это я помню
довольно хорошо. Как-то раз упомянутый интеллигент принёс нам листок
народовольческого содержания и, подавая его Ф., спросил, годится ли он для нас,
социал-демократов. Видимо, листок был Ф. забракован, потому что мы его так и не
читали и когда после спросили о нём, то получили ответ, что мол-де его нет. Не
принимая деятельного участия в спорах между нашими и народовольцами, мы не
видели и той разницы, которая была во взглядах, но всё же склонялись на сторону
с.-д., может быть под влиянием и Ф., и интеллигента, и нашего хорошего
знакомого. Народовольческие листки стали появляться у нас реже, тем более, что и
сами сторонники народовольческой деятельности нам не особенно нравились,
особенно не нравился Козлов, который, как я уже говорил, сделался впоследствии
прохвостом. И ещё больше не нравилось нам, что один из народовольцев, работавший
в одной с нами мастерской, постоянно в разговорах рисовал план убийства царя, но
всё это были только мечты и планы, а живой деятельности мы от наших
народовольцев не замечали, и такого рода разговоры стали нам надоедать. Оно и
понятно: если он действительно ярый сторонник убийства царя или кого-либо ему
подобных, он должен быть заговорщиком и строгим конспиратором, если только ценит
свой план и желает привести его в исполнение. Следовательно, он должен молчать о
своей работе, и только если удастся план покушения, его будут чтить, как героя,
но большого влияния на массы его, идеи не окажут, так как их и знать не могут.
Большинство чтущих и то не будут его сторонниками. Но такого человека я не знал,
а те, которых я знал, были просто любители поговорить о разных покушениях и
ничего больше, и даже не старались; как будто пропагандировать свои идеи.
{38}
Поэтому для нашей пропаганды было достаточно нетронутых людей. Когда мы
подходили к внушившему нам доверие человеку и предлагали, книжку нелегальную или
легальную, или вопрос о школе, об учении, мы замечали, что никто с ним так ещё
не заговаривал и не влиял на него, но своё влияние мы считали недостаточным для
убеждения человека, гораздо более нашего жившего на свете.
Как-то раз на работе я подошёл к одному народовольцу, который передал мне
фантастический план взрыва Зимнего дворца с целью убить царя. Не придавая
особого значения этому плаву, я всё же остановился на этой мысли, стараясь
убедить себя, что план выполним. Существенным недостатком этого плана было то,
что требовалось изобретение, да такое изобретение, до которого ещё не додумался
ни один человек, и потому план сам собою являлся простоя выдумкой, но я сам не
мог этого себе разъяснить. В таком настроении я подошёл к Ф. и в коротких словах
передал ему мою беседу с народовольцем, рассказав об его плане. Он выслушал и
хладнокровно ответил, что если кто хочет убить царя, то нечего об этом так много
думать, а стоит только пойти на Невский, нанять хорошую комнату или номер в
гостинице и застрелить царя, когда он поедет мимо. Люди воробьев убивают,
неужели так трудно убить царя? Да такого здорового! Такой ответ меня
положительно изумил, а ироническая усмешка на всегда очень серьёзном лице Ф.
очень пристыдила, и мне было страшно досадно за мою глупую голову, занимающуюся
обсуждением фантастических планов...
Смущённый взглядом Ф. я ушёл на своё место и решил больше с ним не говорить о
таких вопросах, да и сам сильно охладел к ним. Занявшись серьёзно чтением книг и
газет, часто я даже засыпал на стуле, уткнувшись головой в книгу, а проснувшись,
торопливо гасил лампу, чтобы городовому или сторожу не бросался в глаза ночной
свет из моей комнаты.
Дни проходили за днями, и мне часто, почти ежедневно, приходилось работать
полночи и ночи и даже воскресенья, поэтому свободных часов для
чтения не было, а немногие, изредка выпадавшие свободные минуты пролетали
отчаянно быстро. Хотя годы мои были самые наилучшие, но всё-таки чувствовалась
какая-то особая усталость и {39} изнурённость, что в свою
очередь сильно отражалось на моём здоровье. Ф. никогда не работал ночной работы,
и мы узнали, что у него ежедневно происходили столкновения с мастером, которые
всегда кончались тем, что Ф. получал свой номер и уходил домой. Это происходило
только благодаря тому, что он был нужный работник и притом постоянно соглашался
на получение расчёта, когда его пытались этим стращать. Моё и Костино дело было
совсем иное; нас могли заменить на другой же день новыми рабочими, и потому
приходилось жить почти исключительно в мастерской и даже раза два в неделю
ночевать под верстаком, чтобы не тратить время на ходьбу.
Во всяком случае утром или вечером каждого воскресенья мы собирались у Ф.,
куда приходил и упомянутый выше П. И. Он читал нам Лассаля об «идее
четвёртого сословия», по истории культуры, про борьбу классов и т. п. Мы очень
приятно провели таким образом несколько воскресений, всё ближе и ближе знакомясь
и срастаясь с революционной деятельностью. Тут же, у Ф., мы познакомились с
П. А. Морозовым3, который
в наших глазах являлся самым образованным человеком из рабочих, и мы постоянно
мечтали сделаться когда-нибудь таковыми же. Мы только не могли одобрить его за
то, что он употреблял водочку и иногда бывал серьёзно выпивши.
Мы с Костей были того мнения, что ни один сознательный социалист не должен
пить водки, и даже курение табаку мы осуждали... В это время мы проповедовали
также и нравственность в строгом смысле этого слова. Словом, мы требовали, чтобы
социалист был самым примерным человеком во всех отношениях, и сами старались
всегда быть примерными. У нас с Костей не было между собою ничего, секретного,
мы даже хотели вместе поселиться, но, обладая возможностью самостоятельно
нанимать комнаты, из конспиративных соображений,
{40} решили оставить обе квартиры, чтобы потом можно
было устроить два кружка, и если один, то чтобы занятия происходили по очереди в
обеих квартирах.
Мы знали, что уже за Ф. следят и постепенно подготовлялись к его утрате. А
П. А. Морозов решил для наибольшей осторожности снять отдельную квартиру,
что в скорости и привёл в исполнение, но это только усложнило положение, так как
в этой квартире поселилось несколько человек, уже известных жандармам, в том
числе и Ф...
В этой квартире у Ф. находилась библиотека, кажется, всей Невской заставы, и
мы находили большое удовольствие в ней порыться, досадуя, что положительно нет
времени для прочтения какой-либо книги. Действительно, чтобы прочесть книгу
Бокля, нам нужно, было потратить не меньше полутора, двух месяцев. При таком
ограниченном свободном времени поневоле с особой завистью смотрели мы на книги и
всё же читали совсем мало, развиваясь при посредстве рассказов, разговоров и
коротких бесед с бывавшим у нас П. И., но, конечно, мы не оставались тем,
чем были раньше. Интересно, как Морозов проносил из дома и домой книги: ему
удавалось незаметно обкладывать вокруг себя по пятнадцати книг и проходить мимо
шпионов совершенно безопасно4.
В этой же квартире мы познакомились со многими фабричными рабочими. Таким
образом, круг нашего знакомства всё увеличивался, увеличивались наши
впечатления, и всё больше чувствовался недостаток времени. Но тут же мы
убеждались, что фабричные работают не меньше нашего, хотя получают гораздо
меньше нас (на фабриках работали от 5 утра до 8 часов вечера, мы же работали со
сверхурочной работой от 7 часов утра до 10 1/2 часов вечера или от 7 часов утра
до 2 1/2 часов ночи и опять от 7 часов утра до 10 1/2 часов вечера),
следовательно, наше положение было довольно завидным, и тем сильнее мы
чуствовали желание работать в пользу идеи равенства.
{41}
Так приблизительно прошла эта зима. Ничего особенного, конечно, мы с Костей
не сделали, и ничего нигде как-будто бы не происходило, всюду было довольно
тихо, рабочие не шумели, было затишье, а если где что и происходило, то мы мало
знали об этом, потому что тогда считалось неудобным говорить обо всём, а листков
тогда ещё не распространяли ни по заводам, ни по фабрикам. Настало лето,
которого мы ожидали с какими-то надеждами, но оно оказалось не таковым, каким мы
ожидали.
Однажды в начале лета, или даже в конце весны, придя как-то утром на работу,
мы были поражены отсутствием Ф., пошли к другому товарищу, жившему с ним раньше
на одной квартире, но от него ничего не узнали, кроме предположения, что Ф.,
вероятно, проспал и потому придёт после обеда. Тяжёлое предчувствие охватило нас
с Костей, и мы часто спускались в первый этаж мастерской на то место, где
работал Ф., но всё было напрасно, каждый раз мы возвращались неудовлетворёнными
и всё сильней и сильней начали сознавать, насколько дорог и важен был этот
человек для нас, какая громаднейшая утрата будет для нас, если наше
предположение оправдается. Настал обед, и мы спозаранку поторопились явиться на
работу, ожидая вести, ибо сами из опасения не пошли на квартиру к Ф. Но вот идёт
товарищ с поникшей головой. Он сообщил нам в подробностях об обыске и аресте Ф.,
конечно, ничего преступного найдено не было, потому что всё было хорошо
припрятано, тем не менее Ф. арестовали и увезли. Где он и что с ним? — с этими
вопросами мы разошлись по своим местам, всякий с горем в душе, всякий думал о
случившемся по-своему.
Мастерская работала полным ходом, все спешили окончить свою работу. Для чего?
чтобы взять скорее другую вещь и опять торопиться? спешить и спешить? для чего?
...опять для того же: хозяевам нужна прибыль! и потому работай, торопись и не
оглядывайся, пока они тебе не выкинут твой жалкий заработок. И тут же перед моим
воображением проносится картина прихода жандармов, обысков.
А нашего Ф.— нет, нет нашего патриарха, отца, с его вдумчивыми глазами,
строго серьёзным лицом, с его железной энергией и бесстрашным мужеством. Ох,
тяжело терять таких людей, особенно человеку, не привыкшему к {42} такого рода потерям. Впоследствии я на аресты смотрел
довольно спокойно, а тогда это было не то, и очень тяжело было мириться с
фактом.
Мы с Костей стали думать теперь, сами о вопросах, которые за нас раньше
решали другие. Арест Ф. ещё больше влил энергии в наши молодые натуры. Наш
хороший знакомый между тем старался лить на нас больше холодной воды, но это не
помогало, мы начали между собою называть его трусом и недостойным человеком,
хотя всё же продолжали постоянно обращаться к нему за разъяснениями в разного
рода вопросах, он удовлетворял нас и только твердил, чтобы мы пока посидели
тихо, а то попадёте, мол, в тюрьму и рано загубите себя. Это на нас не
действовало, и мы продолжали гнуть свою линию, как умели. Костя в это время
поступил в другую мастерскую, где его поставили распорядителем над мальчиками, и
у него сейчас же появилась масса пропагандистской работы; потребовались
всевозможные маленькие книжонки, которые мы искали по магазинам и даже во многих
местах спрашивали два нелегальных названия книжек, не зная, что они нелегальные.
В конце концов мы начали понемногу умнеть и составили каталог книг, которые
можно спрашивать свободно.
Чувствуя одиночество, мы не падали духом. Косте удалось пристроить у себя в
мастерской П. А. Морозова. Мы этому были особенно рады как потому, что его
уже на фабрике не принимали, так и потому, что он может лучше себя чувствовать,
если обеспечит своё экономическое положение, а больше всего мы радовались тому,
что, находясь около нас, он сможет нами руководить, развивать нас и давать нам
новые знания, и тогда-то мы уже легче сможем двигать вперёд своё дело. Дело у
нас уже было: мы должны были начинать развивать молодёжь, такую же, как и мы, и
(много моложе нас, и выводить наружу некоторые злоупотребления, производившиеся
заводской администрацией. И вот при всякой встрече с Костей — а мы встречались в
обед у Кости в комнате (которая была недавно снята у человека, находившегося под
нашим влиянием, но очень обременённого семейством) — я расспрашивал Костю, о чём
шла у него беседа с Морозовым в этот день, надеясь узнать что-либо интересное,
но Костя говорил, что Морозов пока слишком заинтересован одной только работой,
так как новое для него ремесло {43} привлекало его. Мы
надеялись, что все же удастся его расположить, и тогда он будет более
общительным с нами. Но произошло совсем другое: Морозова однажды пригласили в
жандармское управление и, арестовав, отправили в дом предварительного
заключения. Этот новый факт положительно осиротил нас, и мы остались совсем безо
всякого руководителя, так как у нашего хорошего знакомого всё сильней и сильней
развивались всевозможные страхи. Желая избавиться от находящихся у него книг, он
при каждом нашем посещений наделял нас таковыми, пока мы перетащили их все до
одной на свои квартиры...
Итак, мы приступили в это лето к пропагандистской деятельности на правах
совершеннолетних, хотя чувствовали себя не вполне подготовленными для
самостоятельной работы, но делать нечего, приходилось мириться с
обстоятельствами. Не было Ф., не было интеллигента П. И., не было Морозова,
и поневоле частенько чувствовали мы кругом осиротелость. Но вот направляется к
нам за Невскую заставу человек, уже давно знакомый со всякого рода революционной
деятельностью, одарённый опытом и безусловно преданный делу. Мы тотчас же
почувствовали новый прилив энергии, и наше положение быстро начало поправляться.
Не проходило ни одно воскресенье, чтобы мы кого-либо не приглашали к себе или
сами не сходили к другим. Сношения с фабрикой Паля, Максвеля, Торнтона и
Николаевскими железнодорожными мастерскими уже были налажены, и происходили
частые собрания, которые хотя и носили чисто личный характер знакомства, однако,
цель и стремления были у всех одни, и потому чувствовался подъём движения (если
можно так выразиться).
Увлёкшись революционной деятельностью и всё увеличивающимися знакомствами, мы
положительно поглотились работой и не заметили, как наступил момент открытия
воскресных школ. Ждали с нетерпением дня открытия, и, наконец, он наступил.
Конечно, мы все до одного записались в школу, которая являлась в одно и то же
время и сильным культурным учреждением, и тем решетом, которое отделяло чистое
зерно от примесей, и тем механизмом, который сталкивал одного субъекта с другим;
здесь происходило хотя не очень большое, но довольно прочное сплетение сети
знакомств. К этому же времени у нас подготовлялся к систематическим занятиям
{44} кружок, может, были и другие кружки, но я их не знал и
не допытывался об них. Как только настала питерская осень, со всех сторон
понаехала интеллигенция, и закипела бурная умственная жизнь. Мы с Костей просто
не приходили в себя от нахлынувшей со всех сторон бурной жизни. Новый знакомый,
назовём его Н. [В. А. Шелгунов.— Ред.], рабочий, поселившийся за
Невскою заставой, связанный с интеллигенцией, которая имела, видимо, широкий
круг своих работников и потому желала и за Невской вести кружковые
систематические занятия, организовал кружок. Местом для занятий послужила моя
комната, как наиболее удобная, где не было посторонних лиц. Кружок составился из
шести человек и седьмого — лектора, и начались занятия по политической экономии,
по Марксу. Лектор5 излагал
нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь вызывать у нас или
возражения, или желание завязать спор, и тогда подзадоривал, заставляя одного
доказывать другому справедливость своей точки зрения на данный вопрос. Таким
образом, наши лекции носили характер очень живой, интересный, с претензией к
навыку стать ораторами; этот способ занятий служил лучшим средством уяснения
данного вопроса слушателями. Мы все бывали очень довольны этими лекциями и
постоянно восхищались умом нашего лектора, продолжая острить между собою, что от
слишком большого ума у него волосы вон лезут. Но эти лекции в то же время
приучили нас к самостоятельной работе, к добыванию материалов. Мы получали от
лектора листки с разработанными вопросами, которые требовали от нас
внимательного знакомства и наблюдения заводской и фабричной жизни. И вот во
время работы на заводе часто приходилось отправляться в другую мастерскую под
разными предлогами, но на деле — за собиранием необходимых сведений посредством
наблюдений, а иногда, при удобном случае, — и для разговоров. Мой ящик для
инструмента был всегда набит разного рода записками, и я старался во время обеда
незаметно переписывать количество дней и заработков в нашей мастерской.
Разумеется, главным препятствием ко всякого рода собиранию сведений служило
отсутствие сколько-нибудь свободного времени, но всё же дело подвигалось, хотя
не так полно и энергично, как следовало бы.
{45}
Занятия в школе пошли своим чередом. Живое и смелое слово учительниц вызывало
у нас особую страсть к школе, и нашим суждениям не было конца. Приёмы,
употребляемые учительницами, мы отлично понимали и просто диву давались их
умению вызвать откровенность в каждом ученике: и горожанине, и фабричном, и
деревенском. Каждое посещение всё тесней и тесней сближало нас со школой и
учительницами, мы чувствовали необыкновенную симпатию к ним, и между нами
зародилась какая-то родственная, чисто идейная близость. Придя в школу и садясь
за парту, с каким-то особенным чувством ожидали учительницу, прибытие которой
вызывало трудно передаваемую радость. И это одинаково происходило в каждой
группе. Все ученики, посещающие школу, не могли надивиться и нахвалиться всем
виденным и слышанным в школе, и потому-то эта школа так высоко и смело несла
свои знания. Мало того, часто один ученик тащил своего товарища хоть раз
посмотреть и послушать занятия в школе и учительницу, и я сам ходил в другие
группы с этой целью.
Учительницы пожелали влиять на нас ещё и помимо школы. Для этого они наметили
нескольких из нас и пригласили в воскресенье к себе на квартиру. Мы с радостью
приняли это приглашение, и в воскресенье около часу или двух — не помню, человек
пять или шесть очутились в городе. В квартире учительниц мы очутились тоже за
партами, и перед каждым из нас лежала тетрадь с вписанной туда ролью из комедии
«Недоросль». Нам говорили, что было бы, мол, недурно изучить роль и потом
сыграть эту комедию в присутствии публики. Не знаю, как раньше: было это желание
у других учеников или нет. Но я и Костя на другой же день пришли с убеждением,
что изучение ролей этой комедии является тоже своего рода комедией, ибо вскоре
вместо изучения ролей все переходили в столовую, где на столе стоял самовар,
обставленный закусками, и за чаем уже шла беседа совершенно не о «Недоросле», а
о жестокостях русского правительства. Появлялись фотографические снимки из
голодных местностей, умирающих переселенцев, общих панихид и т. п. Нас старались
как будто бы «сагитировать», а мы с Костей давно уже были совершенно преданными
этому делу людьми и потому решили предложить, чтобы нас учили не комедии
«Недоросль», а всему, что знают сами, и чтобы {46} закуски
и чай не устраивались, так как они обременяли учительниц — людей и так очень
небогатых. Однако наши посещения прекратились вскоре сами собой, об этом
позаботились жандармы, но память об этих беседах во мне живёт и будет жить.
Нужно сказать, что, кроме школы, занятий на квартире у учительниц,
систематических занятий кружка у меня на квартире, мы ещё занимались с
вышеуказанным интеллигентом П. И., который продолжал посещать нас довольно
правильно раз в неделю, когда мы собирались в другой квартире человек по восемь
и девять. Он прочёл нам ряд лекций из разных областей. Мы внимательно прочли
часть произведений Лассаля, потом там же читали Кеннана. Эта книга произвела на
меня сильное впечатление. Измучившись от работы и занятий, мы часто тут же, в
комнате, и засыпали, предварительно спрятав книгу, хотя и это не всегда делали.
Ложась часов в двенадцать спать, в четыре или в половине пятого фабричным
приходилось уже вставать, так как в это время фабрика уже протягивала свои
щупальцы и начинала сосать бесчисленное количество людей.
Это время у нас было самое интенсивное в смысле умственного развития, каждая
минута нам была очень дорога, каждый свободный от работы час был заранее
определён и назначен, и вся неделя так же строго распределялась. Когда
припоминаешь теперь это время, просто удивительно становится, откуда только
бралась энергия для столь интенсивной жизни. Но зато понятным становится и то,
почему так мало можно встречать столь развитых товарищей-рабочих в других
городах и местечках, где встречаешь мало интеллигенции и так сильно чувствуешь
недостаток её. И вполне понятно, что петербургские рабочие легче выделяют из
своей среды и смелых и сознательных рабочих, хотя провинция всегда может
выставить не менее, энергичных, смелых борцов, при первой возможности
познакомившихся с умственной жизнью. Мы, питерцы того времени, были окружены со
всех сторон интеллигенцией, и всё же часто раздавались голоса за то, чтобы
рабочие сами брались за развитие товарищей в кружках, но это приходится начинать
выполнять пока по провинциям, где интеллигенции очень мало, а местами и совсем
нет. На этой почве, как увидим ниже, вырабатываются своеобразные приёмы и
отношения у рабочих и интеллигентов друг к другу. Мы в это время были просто
подавлены со всех {47} сторон окружающими нас знаниями и
желанием переливать в нас эти знания, что далеко не всегда хорошо удавалось;
причиной служило отсутствие свободного времени для занятий, да и на занятиях-то
многие доказывали, что их организм доведён до такого сильного истощения, что не
может воспринять того, о чём ему говорят.
Так шла и подготовлялась работа в Петербурге, за Невской заставой, в конце
осени 1894 года, когда происходила медленная созидательная работа в кружках. Но
было очевидно, что среди интеллигенции шла подготовительная работа к оказанию
большего влияния на самую массу. Говорилось изредка об этом и у нас в кружке, но
это новое дело для нас было незнакомо и не было ещё человека, могущего быть
руководителем в этой работе. Поэтому понятно, что не особенно торопились с этого
рода деятельностью.
Возвращаясь из города как-то вечером с закупленными книгами, я и Костя
столкнулись на империале конки с П. А. Морозовым, только что
выпущенным из «предварилки» и с узлами книг и белья направлявшегося к квартире
своей сестры. Мы, разумеется, несказанно были обрадованы столь неожиданной и
приятной встречей и сейчас же затащили П. А. на квартиру к Косте, где и
засыпали его всевозможными вопросами из области жандармских приёмов при
допросах, о его обвинении, о жизни в тюрьме и многими другими, всё в этом же
роде. И тут же мы узнали, что его отправляют на родину. Это самым скверным
образом подействовало на нас, так как мы при встрече с ним обрадовались, что у
нас появляется ещё один умелый руководитель и, значит, дела всё становятся лучше
и лучше. В коротких словах передали мы П. А., как идут наши дела, и,
конечно, порадовали его своими успехами. Быстро пролетели вечерние часы, и мы
пошли провожать его к сестре. Из предосторожности мы не шли там, где село
Смоленское густо населено. Дружески расставшись, мы направились к домам,
обсуждая впечатление этого вечера, и ещё больше проникались желанием пострадать
за дело.
Очень характерно, что многие из молодёжи, почти все искренно преданные делу
люди, постоянно твердили одно и то же: если одного арестовали, то почему же я
должен остерегаться или быть, мол, не особенно активным товарищем, что же, мол,
разве я лучше или хуже его, почему {48} его арестовали, а
не меня, или я разве не сумею держать себя при допросе? Нет уж, мол, я желаю
доказать, что я такой же товарищ и так же предан делу и потому какой смысл
избегать ареста? Такое убеждение и такие выражения, энергичные и настойчивые,
повторяются сейчас же после ареста кого-либо из товарищей. Я как-то писал по
этому поводу даже заметку к товарищам, указывая им на вред такого отношения к
делу, на то, что это неправильный взгляд, указывая, что важно как можно дольше
продержаться и дольше быть незамеченным, стараясь продать себя дороже и оставить
более глубокий след (т. е. чтобы больше осталось на воле товарищей) после своего
ареста. Однако это не всегда принимается во внимание, и я уверен, что это же
обстоятельство отчасти послужило причиной и моего ареста. Словом, желательно,
чтобы каждый с первого шага был осторожен и внимателен к себе и к своим
поступкам.
Вскоре после отъезда Морозова, в начале зимы, рано утром, я был разбужен
стуком в дверь квартиры. Я уже привыкал чутко спать и сейчас же проснулся от
этого стука. Конечно, я не сомневался, что это пришли жандармы, и потому,
сообразивши, что ничего спрятанного нет, спокойно пошёл открыть дверь, чтобы
впустить врагов, которые потом бросят меня в тюрьму. Нервы сильно играли против
всякого моего желания, но я, стараясь придать себе спокойный вид, внутренне
торжествуя, что жандармы у меня ничего не найдут, вышел на кухню, где
старуха-домовладелица стонала и охала, собираясь выйти и отпереть дверь. Сказав
ей, чтобы она не беспокоилась, я вышел в коридор и услышал странно знакомый
голос. Оказалось, что мои предположения о жандармах были преждевременными, но
зато я убедился, что они всё-таки придут. Передо мною стояла, волнуясь и плача,
симпатичная женщина — квартирная хозяйка Кости, женщина неграмотная, но чутьём
понимавшая справедливость наших взглядов, и рассказывала об аресте Кости. Она,
конечно, видела всю процедуру обыска и ареста и после того, как его увезли в
карете, она почувствовала потерю как будто родного и близкого человека и,
оставив плачущими детишек, прибежала предупредить меня. Я же, вместо успокоения,
сказал ей, что сейчас, следовательно, приедут и ко мне и потому и просил её
уйти, дабы её не застали у меня. Продолжая плакать, она побежала домой {49} к свом детям. Я же энергично принялся чистить комнату от
всяких записок и всего, что могло пригодиться жандармам, но прошло час-два, мне
нужно было уходить уже на работу, а жандармов всё нет. Я отправился на завод,
чувствуя потерю столь дорогого мне товарища, товарища, с которым мы жили одной
жизнью и одним делом, но ему первому выпало на долю испытать произвол русских
жандармов. Что-то будет с Костей? В чём-то будут его обвинять жандармы? И нашли
ли у него что-либо из нелегальщины? Около этих вопросов вертелась моя мысль, и
не уходило из моей головы убеждение в таком же скором обыске и аресте меня.
Странно казалось мне: жить так близко с ним, обедать у него на квартире и чтобы
не проследили за мною так же, как и за Костей,— это было невозможно. Между тем
впоследствии оказалось, что его арестовали благодаря письму, в котором значился
полный адрес Кости. Хорошо, конечно, что ничего при нём на квартире не было
найдено. Хотя его арест не был предвиден, но тем не менее мы уже были настолько
подготовлены к возможности ареста, что, может быть, поэтому на меня не особенно
подействовал его арест. Скверно только, что без него совершенно споткнулось наше
дело у него в мастерской, где было много малолетних работников, с которыми он
особенно привык возиться. Ходить же мне в ту мастерскую положительно невозможно
было, пришлось удовольствоваться теми людьми, с которыми я старался встречаться
вне завода, и делал, что мог. Занятия в кружках, собиравшихся в моей комнате,
продолжали происходить столь же правильно и регулярно, как и раньше, только
чувствовалась утрата одного человека.
Вскоре после ареста Кости Н. сказал, что мне придётся пойти на одно общее
собрание петербургских рабочих, где нужно решить кое-какие вопросы. Помню, что
из-за Невской заставы на это собрание явилось трое, в том числе и я. Собрание
происходило в квартире одного рабочего на самой окраине города. Народа
собралось, кажется, не меньше пятнадцати человек, если не больше. Были, кажется,
и интеллигенты или один интеллигент. Когда все собрались, а до этого происходили
разговоры тихо, наподобие маленького интимного кружка, то без всякой особой
церемонии или формальности приступили к обсуждению разных вопросов и дебатам. В
обсуждении вопросов я и еще другой товарищ не принимали ровно {50} никакого участия, потому что я, да и товарищ чувствовали
себя совершенно неспособными выступать с речью перед таким собранием, которое
состояло всё из рабочих вожаков или рабочих, очень развитых и привыкших держать
себя при таких обстоятельствах очень солидно и смело доказывать свою мысль или
предложение. Да большинство, конечно, заранее знало, о чём будет идти речь, и
уже ранее бывало на подобного рода собраниях, где и набралось смелости. Я
внимательно вслушивался в дебаты и, конечно, понимал суть дела. Хорошо помню
предложение об общей петербургской кассе рабочих, которая должна была явиться
главным органом всех касс и составлялась бы из процентов, вносимых всеми
«порайонными» кассами, цель этой кассы — заботиться о передаче денег
арестованным и при нужде пополнять истощение какой-либо местной «районной»
кассы. При этом много вызвало дебатов обсуждение вопроса о том, что у
интеллигенции есть теперь денежные средства, а кассы рабочих пусты, тогда как
есть много самых неотложных нужд, которые удовлетворить нечем. Многие рабочие,
настаивая на желании получить часть денег от интеллигенции, довольно сильно
горячились, что вызвало у меня удивление. Я удивлялся их горячности, точно дело
касалось лично им принадлежащего кошелька, и всё же следил и молчал, боясь
уронить какое-либо неловкое слово. Вопрос, наконец, был решён в том смысле, что
нужно взять рублей сто из кассы интеллигенции в кассу рабочих. После этого было
решено тайным голосованием избрать кассира и не помню ещё каких-то важных двух
ответственных лиц (за точность не ручаюсь). Эту процедуру при конспирации
фамилий присутствующих решено было проделать следующим образом: все заняли
строго определённое место, и всякий был назван известным номером; мне пришлось
числиться, кажется, 13-м, каждый получил по кусочку чистой бумаги равного
формата, вписывал на эту бумажку номер человека, которого он желал выбрать,
свёртывал её, потом клал, кажется, в шапку, где перемешанные бумажки
просчитывались, и чей номер был написан больше раз, тот и считался выбранным.
Когда был избран кассир, я встал со стула, сильно покраснев при этом и, вообще,
чувствуя себя очень неловко, подошёл к столу и положил на него 10 рублей со
словами:
{51}
— Товарищи, настоящие деньги мною получены через одно лицо от Красного Креста
в пользу петербургских рабочих.
Все внимательно выслушали, и что-то было сказано по этому поводу, но я не
помню, что, да и вообще плохо слышал говоривших, пока не пришёл в равновесие от
своего волнения. Вновь избранный кассир подошёл к столу и взял деньги,
приступая, таким образом, к исполнению своих обязанностей. После этого были
подняты ещё какие-то вопросы и шли дебаты, но о чём — не помню. Участвующие
постепенно начали уходить по одному и по двое. День клонился к вечеру, и мы с
одним товарищем из-за Невской заставы вышли и направились в свои края, ибо путь
был немаленький. Это было первое собрание, на котором я являлся представителем,
но, конечно, ещё не выборным, ибо приходилось конспирироваться от очень многих,
и хотя я ожидал гораздо большего и более внушительного собрания, тем не менее
оно произвело на меня известное впечатление.
На заводе я продолжал работать, но мне посчастливилось перейти на лучшую
работу и в другую партию, где я категорически отказался от сверхурочной работы,
и мне это сходило с рук до поры до времени благополучно. К этому времени меня
уже все в партии хорошо знали, знали мои взгляды и подозревали, что у меня можно
даже получить, нелегальщину. Бывали случаи, когда мастеровые из другой партии
подходили к моим тискам и, обращаясь попросту, просили что-либо им рассказать.
Всё же, чувствуя себя очень молодым, я смущался и говорил, что ничего не знаю,
да нечего рассказывать, но это были неискренние слова, так как сейчас же после
этого я начинал вести какой-либо разговор, стараясь, как говорится, подходить
издалека, и что же? — они охотно слушали, соглашались и хвалили меня, но мне
этого было мало, я желал, чтобы они совершенно отдались делу, посвятив раз
навсегда себя для этого, чтобы прекратили работать вечера и ночи, читали бы
книги и учились, учились бы энергично, настойчиво, как делал это я; но не всякий
обыкновенный, часто заразившийся алкоголизмом человек в состоянии бросить всё и
ни о чём, кроме социализма, не думать.
В этом была отчасти моя ошибка, что я совершенно не считал способными таких
людей быть участниками партии. В один прекрасный день не повернёшь всего
мировоззрения {52} широкой массы настолько радикально,
чтобы она стала идейной, как отдельные личности из её среды, А всё же эта масса
моментами становится положительно революционной, но такой момент очень трудно
определить заранее даже за час. Мне живо и ярко рисуется один вечер, когда
пришлось жить страстями массы заводских рабочих, когда трудно было удержаться,
чтобы не броситься в водоворот разыгравшейся стихии, трудно было удержать
схваченный и сжатый в руке кусок каменного угля, чтобы не бросить его и не
разбить хоть одного стекла в раме квартиры какого-либо прохвоста мастера.
Невозможно остаться равнодушным зрителем в такой момент, и много нужно иметь
мужества, чтобы останавливать своих же товарищей от проявления ненависти к
своему угнетателю...
Дело было накануне рождества 1894 года. Окончив работу за два дня перед
праздниками и имея расчётные книжки на руках, рабочие разошлись по домам, как и
всегда после окончания работы; ни у кого не было особой злобы, хотя
неудовольствие чувствовалось у каждого рабочего. Оно и понятно: заводская
администрация довольно часто стала затягивать выдачу денег, особенно последние
две-три получки.
Прогудит в субботу гудок в 3 1/2 часа дня, остановятся машины, и вдруг на
всём заводе настаёт тишина это значит, что завод прекратил работу до
понедельника (известно, что после получки редко кто согласится работать).
Ежедневно, как только заводской гудок прогудит об окончании работ, мастеровые со
всех сторон надвигаются быстро к воротам, некоторые из них бегут бегом,
некоторые выскакивают из-за углов; сторожа, кряхтя и охая, машинально проводят
своими привычными ладонями по корпусу рабочего, но рабочие всё сильней и сильней
напирают, и сторожа начинают торопиться. В субботу же народ выходит как-то
медленно, не торопясь и очень маленькими разрозненными кучками. Это значит, что
большинство пока осталось в мастерских, ожидая выдачи получки. Но, убедившись,
что артельщики ещё не приехали из города с деньгами, многие, живущие поблизости,
отправляются домой пообедать и, торопясь, опять возвращаются в завод, дабы при
выдаче не пропустить своей очереди. Другое дело, если кто живёт далеко от
завода, тому не приходится совсем уходить домой, пока окончательно не покончит
{53} с заводами товарищами всяких дел и не освободится от
разных обязательств. Но ждут час, другой, а получки всё нет и нет. Время
затягивается до позднего вечера, и рабочие, наконец, начинают роптать на
администрацию, последняя же совершенно удаляется сейчас же по окончании работ и
потому даже спросить не у кого о часе выдачи денег, и роптание становится общим.
Но вот часу в восьмом, наконец, появляются артельщики с деньгами: слышится
глухой ропот со всех сторон, и местами прорываются ругательства и обещание
запустить куском железа в артельщика, видимо являющегося простым козлом
отпущения. Артельщик, молча шмыгая, быстро проходит в контору мастерской, и
минут через 5—10 начинается выдача денег, иногда заканчивающаяся около половины
одиннадцатого. Конечно, окончить работу в 3 1/2 часа дня, потом просидеть до
десяти часов в заводе, ничего не делая, и уже после этого уходить домой в полной
уверенности, что никуда сходить не удастся и даже побывать в бане некогда — всё
это, естественно, озлобляло мастеровых. Между тем администрация завода
продолжала гнуть свою линию злоупотреблений, не обращая внимания на ропот
рабочих.
В таком именно виде обстояло дело накануне рождества 1894 года. На
другой день после окончания работ мастеровые собрались около пополудня в завод
за получением денег. Ждут час, другой, третий, а денег всё нет и нет. Многие
жалуются, что нет денег и потому не на что закупить провизию, а завтра, мол, не
поспеть в один день управиться; другие жалуются, что хотели поехать в деревню, а
теперь, пожалуй, не поспеешь и т. п. Наступил вечер, а денег всё нет и даже не
удаётся подробно узнать о положении дел. Некоторые говорят, что хозяева
прогорели и поэтому, мол, денег рабочим совсем не дадут. Многие этому начинают
верить, и пущенный слух находит почву. Много ещё слухов возникает и, конечно,
всё — не в пользу рабочих. Получается что-то очень тревожное. Мастера тоже
нервничают, мастеровые ходят поминутно то в мастерскую, то из неё. Около завода
на улице образовываются кучки из мастеровых и ведут оживлённые разговоры о
хозяевах и получке, пересыпая разговор всевозможными ругательствами. Могла бы
произойти порядочная неприятность, но заводская администраций в 7 часов или
около этого часу объявила, что выдача заработка будет {54}
производиться завтра в 10 часов дня: Это значит в рождественский сочельник. Хотя
все были страшно недовольны, всё же определённое заявление подействовало
успокоительно, и народ кучами повалил вон из завода, образуя около проходных
плотную массу. Скоро и эта масса постепенно растаяла, и завод опять уснул очень
мирно до следующего дня.
Почти та же история повторилась и в рождественский сочельник. День клонился к
вечеру, и на улице серело, всюду зажигались фонари, и в мастерских горели по
верстакам, станкам и на других местах свечи. Всюду слышны были тревожные
разговоры. Публика была взволнована и не могла ни стоять, ни сидеть на одном
месте и потому переливалась из мастерских на двор, на улицу, а оттуда опять в
мастерские. Я тоже ходил от одной кучки к другой, прислушиваясь к разговорам, и
местами сам вступал в разговоры. Вышел на двор, а потом на улицу, всюду было
много народу и, видимо, было немало и посторонних, т. е. не заводских. Они тоже
входили в завод, в мастерские и обратно. Потолкавшись немного по улице, я
вернулся обратно в мастерскую, как вдруг слышу, что на улице у ворот бунт. Я не
верю и говорю, что только что пришёл с улицы и что там ничего подобного нет, но
и мне не верят. Многие сейчас повскакивали с мест и направились; к выходу, я,
конечно, тоже решил убедиться в справедливости утверждений и вместе с другими
направился к выходу. Около лестницы нам навстречу попался очень взволнованный
мастер и дрожащим голосом произнёс: «Ребятушки, не ходите на улицу. Сейчас
привезут деньги и будут раздавать, пожалуйста не волнуйтесь, я вас прошу
успокоиться». Эти слова уничтожили все сомнения, и мастеровые торопливо побежали
вниз по лестнице, спеша к воротам. Сзади нас слышались голоса некоторых рабочих,
зовущие уходящих обратно, дабы не попасть в какую-либо кашу. Совершенно
напрасно. На этот зов никто не обращал внимания, и мы скоро очутились у ворот.
Масса народу оставалась зрительницей происходившего. Пройти через эту толпу не
было никакой возможности. Наша проходная подвергалась разрушению. Там били
стёкла и ломали рамы. С улицы на наши ворота летели камни и палки, брошенные с
целью сбить фонари и орла. Фонари скоро потухли, стёкла побились, и, кажется,
существенно пострадал также и двухглавый орёл. После этого было {55} прекращено бросание камней и палок в ворота, и тогда мы
смогли выйти со двора завода на улицу. Проходная здорово пострадала и являлась
трофеем взволнованной кучки смельчаков. Пробовали её даже поджечь, но .не
удалось, и потому она стояла, как страшилище в которое никто взойти не смел из
страха, чтобы его не заподозрили как сторожа и не избили, поэтому же, очевидно,
она и не была подожжена. Всё внимание разбушевавшихся было обращено теперь на
противоположную сторону завода, где на воротах никак не удавалось разбить
фонари, а разбивать проходную не желали из страха повредить себе, так как в этой
проходной хранились паспорта.
Рядом с воротами находилось длинное, одноэтажное здание, в котором жил
управляющий завода, человек; вызывавший у всех рабочих ненависть. Его-то и
хотели наказать рабочие; но как это сделать? Пробовали раскрыть дверь, но не
сумели и решили поджечь парадный вход.
— Керосину сюда, скорей! — кричали суетившиеся: у парадного люди, но керосину
взять было негде. Доставали из разбитых фонарей лампы, тащили к крыльцу и
поливали собранную кучку разных деревянных щепочек.
Нужно сказать, что всё это время толпа положительно запруживала улицу, и не
было возможности проехать даже извозчику, но паровик с тремя, четырьмя вагонами
продолжал ходить всё время. Опасаясь нападения рабочих, отчего могли пострадать
прислуга и публика, машинист пускал полным ходом поезд, сам садился ниже окон,
не наблюдая за путём, пока не минует завода. Рабочие страшно возмущались этим и
потому кидали в поезд всё, что попадалось в руки. Я видел, как один специально
разбивал стёкла в вагонах. Он направлял длинную палку, которая барабанила по
окнам летевшего поезда, и редкое стекло оставалось цело. Публика от страха
падала на пол вагонов и тем избегала возможных ударов от палок и камней.
Удивительно, как не произошло при этом катастрофы. Рабочие легко могли положить
что-либо на рельсы, и крушение было бы неминуемо. Очевидно, страх, что при этом
пострадает много стоящих у завода рабочих, удерживал от такого поступка.
Одновременно с нападением на проходные толпа рабочих направилась и к
заводской хозяйской общественной лавке. Эта лавка являлась бичом рабочих, в ней
рабочий-заборщик чувствовал презрение к себе не только со {56} стороны прохвоста управляющего, лавкой, но и всякого
приказчика. Забирающий товар не мог быть требовательным за свои деньги, он
получал то, что ему давали, а не то, что ему было необходимо. Особенно это
чувствовалось при покупке мяса, когда давали одни кости, а будешь разговаривать,
то выкинут из завода. Понятно, что во время такого протеста не могла уцелеть эта
ненавистная для всех лавка, и, действительно, её разгромили. Были побиты банки с
вареньем, много других товаров было попорчено; сахар и чай выкидывали на улицу,
посуду били и т. д.
Таким образом, как я уже говорил, попортили проходную и находящиеся в ней
книги, побили фонари, пытались проникнуть в квартиру управляющего, который,
запершись со своим семейством в квартире, чувствовал, что жизнь его висела на
волоске, потом пытались поджечь эту квартиру (и тоже не удалось), разбили лавку,
попортили массу товара, начали бить стёкла в главной конторе и у директора
завода. Здание, в котором помещалась главная контора и квартира директора,
находилось во дворе, фасадом к улице. В это здание швыряли куски каменного угля.
Я тоже, было, схватил кусок угля, но не бросил. Однако больше всего гнева
вызывала лавка. Туда все бежали, давя друг друга в узком и тупом переулке. Всё
это продолжалось не меньше получаса.
Первым спасителем для управляющего явилась пожарная часть местной полицейской
части, которая, расположившись около ворот дома управляющего, парализовала
действия толпы в этом пункте. Вскоре прискакали казаки и встали вдоль улицы
против завода. Узнавши о погроме лавки, они направились туда, но теснота проезда
не особенно многим позволила въехать в переулок и к самой лавке. Несомненно, что
распоряжавшиеся в лавке люди старались по возможности скорее выбраться оттуда,
но всё же возвращаться пришлось мимо казаков. Часть смогла перелезть через забор
и выпрыгнуть во двор завода, избегнув встречи с казаками. Возле лавки было
арестовано много публики, не принимавшей участия в погроме лавки, а только
глазевшей на любопытное зрелище.
Вскоре после пожарных приехал с-петербургский брандмайор генерал Паскин. Он
направился к корпусу главной конторы, но дверь оказалась запертой. Перетрусившие
конторские заправилы нескоро впустили генерала, который, не зная сути дела,
волновался, нажимая кнопку {57} электрического звонка, и в
то же время успокаивал небольшую кучку рабочих, человек в пятнадцать, говоря,
что он пойдёт в контору и распорядится, чтобы сейчас же начали выдавить
жалование. Ему отвечали: ведь мы не бунтуем, а только ожидаем жалование,
которого, очевидно; нам не желают выдавать. Наконец, дверь открылась, и генерал
почти бегом поскакал вверх по лестнице в контору знакомиться с сутью дела.
Публика начала стекаться к конторе, и минут через десять набралось больше
полсотни. В это время сбегает с Лестницы генерал и выходит к нам на улицу. Лицо
у него красное, и, видимо, он в большом волнении. Надо полагать, что он остался
не особенно доволен объяснениями в конторе. Всё же, обратившись к собравшимся у
подъезда рабочим он начал совестить нас за произведённый погром проходной, лавки
и вообще говорил о нашем безнравственном поведений. Ему довольно резонно отвечал
какой-то мастеровой пожилых лет, указавши на то, что весь этот погром вызван не
рабочими и что произведён он местными золоторотцами, которые первые пошли потом
громить лавку. Не помню что, но что-то говорил и я, говорили ещё человека два,
три, потом генерал опять просил нас быть смирными и не волноваться, а что
касается выдачи денег, то их сейчас привезут. Они, мол, были уже привезены, но
артельщики, испугавшись бунта, уехали опять обратно в город, куда за ними
специально послано теперь. Ещё раз попросив нас спокойно обождать скорой
получки, генерал торопясь направился в ворота, а потом и к общественной лавке. В
это же время, очевидно, прискакали казаки, а через полчаса уже явились
артельщики с деньгами. Когда рабочим начали выдавать, одновременно во всех
мастерских, деньги, в это время в главную контору съехались разные
начальствующие лица, и там происходило особое чрезвычайное собрание...
Мне было очень интересно узнать причину, которая послужила сигналом бунта. По
более достоверным рассказам выходило так, что какой-то мальчуган обругал сторожа
или бросил в него чем-то. Его тут же схватил городовой, которому околодочный
надзиратель велел тащить мальчика в проходную контору. Толпа бросилась защищать
мальчика, и кто-то разбил стекло. Это и явилось началом общего погрома. Тут же
находившиеся сторожа смешались с толпой или скрылись, убегая во двор, {58} стараясь избавить себя от взволновавшихся мастеровых.
Во время рождественских праздников в селе Смоленском произошла масса арестов,
так как здесь находится наш завод; многих арестовали по указаниям довольно
сомнительного свойства. Так, некоторые были арестованы только благодаря тому,
что раньше поругались с каким-либо приказчиком или ещё с кем-либо из мастеров.
Большинство же было арестовано по показанию полиции или просто если при обыске
находили не раскупоренную одну восьмую или четверть фунта чаю или сахару —
больше, чем было записано в последний раз в заборной лавочной книжке. Так или
иначе, а арестовано было много и много таких, которые положительно не вызывали
раньше никакого подозрения, что они сочувствуют революционному движению или
бунтарству. Все арестованные много и долго сидели до суда, и многие были
осуждены далеко не так милостиво.
На рождественских же праздниках у нас происходило обсуждение вопроса о
выпуске листка по поводу этого бунта. Случай был более чем подходящий и поэтому
очень желательно было испробовать начало агитации на данном вопросе. Был
составлен очень большой листок, который был потом оттиснут гектографическим
способом, сшит в маленькие тетради и, таким образом, был готов для
распространения. Но тут возник вопрос, как его распространить. Мне поручили
руководить этим делом, между тем я даже не знал, как приступить. Рассовать
брошюры по ящикам было неудобно, могут заметить. Притом для первого раза этих
брошюрок было не особенно много. Не помню, в субботу или в понедельник вечером я
разнёс часть брошюрок по ретирадам, остальные рассовал, как мог: где сунул в
разбитое стекло в мастерскую, где в дверь, где в котёл, где на паровозную раму.
Словом, старался, чтобы они попали по всем мастерским. На другой стороне завода
точно так же всё было выполнено, местами клали в ящики с инструментами, за
вальцы, где часто сидят рабочие, и т. д. Эта работа оказалась очень простой и
лёгкой, но так как выполнялась она в первый раз, то, естественно, вызывала
некоторого рода робость. То ли, что было очень мало этих листков, то ли, что они
появились сразу после бунта, или что другое, но о них говорили очень мало, и при
желании узнать впечатление {59} мы не могли ничего
выведать. А в одной мастерской на шедший брошюрку-листок передал её мастеру,
который совершенно несправедливо напал на одного старого работника, обвиняя его
в распространении листков, тогда как тот уже давно перестал заниматься подобного
рода вопросами. Мне было очень жаль старичка за то, что ему приходится
выслушивать несправедливые обвинения, но всё же отказаться от желания подбросить
в их мастерскую листок мы не могли, о чём я ему и сказал. Опыт можно было
считать удачным, хотя особых результатов и не было видно. Позднее таким же
образом были подброшены листки в мастерские при петербургском порте, где они
произвели более сильное действие, чем на Семянниковском заводе.
После рождества мы снова начали заниматься каждое воскресенье у меня в
комнате и возобновили ходьбу в школу; кроме того, часто ходил к нам упомянутый
П. И. Он продолжал изредка читать нам кое о чём по вечерам, и, таким образом, мы
положительно целиком были заняты умственной жизнью.
Во время занятий в кружке происходили иногда такого рода встречи: сидим у нас
в комнате и ведём беседу с интеллигентом социал-демократом. В это время
открывается дверь и всовывается чья-то голова, затем она исчезает, а иногда за
головой появляется и весь человек. Разговоры или речь лектора прерывается, тогда
вошедший просит одного из передовых рабочих выйти с ним, и они вместе уходят.
Оказывается, что это был народоволец, который почувствовал себя очень неловко,
попав к нам в то время, когда в кружке происходили занятия. Но в то же время из
этого видно, что расхождение не проводилось слишком резко. В один и тот же
кружок иногда ходили социал-демократы и народовольцы, это объяснялось часто тем,
что члены кружка ранее состояли членами кружка народовольческого. В конце концов
народовольцы перестали ходить в наши кружки, так как им не давали новых кружков,
а вербовать членов или сторонников в наших кружках им не удавалось. В это время
у нас были одна девица и жена одного высланного, которые иногда выражали желание
посещать наши занятия или те чтения, которые происходили у нас помимо
интеллигентов; как было упомянуто, мы самостоятельно читали Кеннана. В комнате,
в которой происходили чтения, помещалось пять {60} или
шесть человек да приходящих было человека два, не меньше; и потому ставился
вопрос: не будет ли очень много народу? С этой стороны вопрос решили в
удовлетворительном смысле. Тогда я предложил вопрос о том, не окажет ли
присутствие особ прекрасного пола нежелательное действие на занимающихся в
кружке. Оказалось, что с этой стороны было высказано некоторое опасение, а один
из членов кружка даже выразился так, что он за себя не может поручиться, если
обстоятельства сложатся так. Этот взгляд был высказан одним фабричным,
впоследствии увлёкшимся алкоголизмом. Ввиду всего этого пришлось отклонять
желание особ женского пола присутствовать на чтениях, хотя они изредка всё-таки
посещали нас. Это единственный случай в моей жизни, когда ставился такой
вопрос... Но я уверен, что следующий случай не был бы решён так
неудовлетворительно.
Частенько посещал нас и Ф. А. Очень приятный и симпатичный рабочий, старик по
своей революционной деятельности. Я всегда с особым удовольствием слушал и
принимал его советы. Я видел в нём то поколение, которое нам приходится сменять,
но я сомневался, будем ли мы настойчивее, сильнее и умнее их. Помню, как ему
пришлось отправиться, на год к «Кресты» для отбытия наказания. Это произвело
очень тяжёлое впечатлений на меня. Я никогда не забуду этого симпатичного
человека уже, можно сказать, потерявшего жизнь и принуждённого ещё пойти в
тюрьму, отдать часть человеческой жизни прожорливому абсолютизму. Помню, как раз
он сетовал на то, что у нас мало поётся песен, а они, мол, раньше очень часто и
много пели. Это — правда, мы ещё мало поём хороших песен и мало, их знаем.
Так мы и продолжали жить и развиваться. Конечно к этому времени завязались
новые знакомства с рабочими. Время незаметно проходило, и наступила весна.
Помню, что у меня к этому времени пошли большие неприятности со старшим в
партии: сначала из-за того, что я не работаю вечеров и ночей, а потом просто,
чтобы избавиться от меня. Старший был недоволен мной за мою самостоятельность,
начавшую сильно проявляться, особенно за последнее время, да ещё и за то, что я
испортил одного молодого человека, которого он желал выработать по-своему и
который служил в качестве мальчика в нашей партии. Эта глухая борьба привела,
наконец, {61} к тому, что в один прекрасный день меня
перевели в другую, более худшую партию, в которой я проработал месяц с
небольшим.
Раз была спешная работа, и всю партию заставили работать ночь. Я и ещё трое
не пожелали работать; нас постращали расчётом, но я и тогда не согласился
работать. Рассвирепевший мастер дал нам прогульную записку на две недели. Это
значит, что нас лишили возможности работать целых две недели, и если бы мы,
прогулявши две недели, вышли на работу, то нас, очевидно, заставили бы опять
работать ночь. Этим способом очень часто достигали того, что рабочий становился
довольно податливым. Но я, получивши записку, направился к фабричному
инспектору, который, думая отделаться от меня, прикрикнул и взвалил всю вину на
меня, а не на заводскую администрацию; но я ему заметил, что пришёл к нему за
защитой, а не за тем, чтобы на меня кричали и взваливали вину мастера лично на
меня. После этого инспектор смягчился и сказал, что он уже несколько раз
запрещал практиковать на заводе данный способ, но что, мол, они опять прибегают
к нему. Он обещал по приезде на завод разобрать это дело. В результате была
проборка мастеру и выдача мне расчёта с уплатой вперёд за две недели. Этот
случай вызвал много толков на заводе, и я даже был некоторое время героем,
сумевшим подтянуть мастера. Повидимому, на короткое время там прекратили
насильно заставлять работать вечера и полуночи с ночами.
Положение изменилось. Я уже собирался покинуть район и перебраться в
какой-либо другой, но потом, получивши работу, опять остался и продолжал
действовать, хотя вскоре пришлось переменить квартиру, в которой я прожил
продолжительное время, не будучи замеченным полицией. Здесь можно было
продолжать вести занятия кружка. Наступило лето, школа закрылась, интеллигенция
уехала в разные места, и рабочее движение как будто бы прекратилось. Но это
только так казалось, а на деле оно не прекращалось, а всё расширялась, но теперь
работа велась, за отсутствием интеллигенции, несколько своеобразным способом.
В это же лето произошло опять общее собрание петербургских рабочих. Оно
состоялось на правом берегу Невы, за торнтонской фабрикой, несколько левее, в
лесу. Там {62} говорилось о том, что движение идёт тихо и
нужно усилить его тем или иным способом. Жаловались на кружковую деятельность и
вообще хотели чего-то нового, еще не допытанного, в более широких размерах.
Много было споров и крику. Двое молодых рабочих особенно старались на всё
нападать, всё осуждать, упрекать рабочих в халатности к новым веяниям... вообще
это собрание носило характер довольно бурный… На этом же собрании был поднят
вопрос о посылке венка на могилу Энгельса, который только что умер в это время.
Часть стояла за посылку, но большинство было против. Отказ мотивировали тем, что
наше движение довольно ничтожно, и если мы пошлём венок с надписью от
петербургских рабочих, то это будет совсем неверно. Притом мы должны будем
пожертвовать человеком, что очень для нас тяжело, а самое главное — мы опоздали
со своим венком. Важно было бы ко дню похорон, а не потом, да и вообще лучше мы
поступим, если в память Энгельса устроим что-либо другое; увлекаться венками нам
не следует. Это умер не какой-либо барон или князь, которому необходим венок…
Этот взгляд одержал верх, поэтому, кажется, был поднят вопрос о телеграмме,
но я теперь не помню, в каком смысле решили его... Разошлись с собрания все с
теми мыслями, что нужно, по возможности видоизменять способ пропаганды в более
активную сторону. Но это далеко не так легко было выполнить, как того можно было
желать. В это время ещё приходилось читать лишь гектографированные брошюры…
приходилось ограничивать область революционных вопросов очень узкой сферой, с
которой был хоть сколько-нибудь знаком рабочий, руководивший в данной местности,
районе или даже кружке. Это же явление можно наблюдать теперь по окраинам, в
провинции, где рабочим приходится выбиваться самим из тёмного, забитого
положения, без помощи интеллигенции...
В это время я и ещё человека четыре — пять часто по воскресеньям отправлялись
за Неву с какой-нибудь книжкой, которую читали и потом обсуждали; делились
своими мыслями и рассказывали друг другу про случаи на заводе и фабрике,
готовились к осени, думая основать несколько новых кружков, и уже намечали
заранее вполне надёжных лиц. Несомненно, в это время существовала касса, но
строгого устава выработано не было, и потому {63} трудно
припомнить теперь, как распределялись и расходовались деньги. Помню только, что
много расходовали денег на книги, но даже упоминания не было о расходах на
нелегальную литературу. Что было поставлено довольно удовлетворительно, так это
легальная библиотека6. Много
книг мы получали от учительниц, много покупали сами, а мне постоянно приносил
книги П. И. Много пропало ценных книг, составленных из статей разных журналов. Я
чувствовал впоследствии всегда недостаток в книгах и только тогда мог оценить
настоящим образом, как много помогает хорошая книга в городе, где рабочему
приходится двигаться вперёд безо всякого подталкивания вперёд интеллигентом, и
тогда книга сможет служить хорошим руководителем. Теперь новое время и новые
песни: всюду проникает или должна проникать литература периодическая,
нелегальная, могущая служить руководителем по многим вопросам. Закинутый в
глухое место рабочий, имея возможность получить такую литературу, имеет тот
якорь, за который может держаться.
Настаёт осень 1895 года, начинают съезжаться со всех концов
интеллигенты, начинает чувствоваться сильный подъём. Приехавшая интеллигенция
желает работать, тем более, что часть её получила выговор за то, что бросила на
целое лето рабочих. И те и другие торопятся возместить летний застой (хотя, по
справедливости, летний период назвать застоем нельзя). Машина пущена в ход
вовсю; ещё зима не наступила, а кружки начинают правильно собираться, и каждое
воскресенье в них появляется по интеллигенту и человек по пять рабочих.
Чувствуется сильный недостаток в квартирах, все имеющиеся заняты; снимается одна
комната специально для занятий и собраний. Вопрос об агитации был решён в
положительном смысле, хотя лично я не был доволен этим. Я был частично
противником агитационной деятельности. Я опасался за уничтожение кружков,
полагая, что агитационная деятельность их совершенно потопит, тогда как плодов
этой деятельности я, да и другие не видели. Тем не менее кружки продолжали
правильно функционировать, и меня просили создать ещё новые кружки для занятий.
Ожидался выпуск листков, которые уже готовились. {64}
Приблизительно в это же время за мною начали следить, да и не за одним мною.
Причина, вызвавшая особое за мною наблюдение, потом выяснилась. Один из рабочих,
бравший у меня нелегальные книжки, дал одну из них своей сестре, а у той увидал
книжку отец, который и сообщил об этом жандарму. Вот чем была вызвана тайная
слежка за мной, но, очевидно, она никаких существенных результатов не дала; и
хотя предупреждали меня о скором аресте, всё же я продолжал действовать, но
принимал все предосторожности, дабы не привести куда-либо жандармов. На самом
заводе продолжала появляться нелегальщина, но это всё я делал через одного из
моих товарищей. Тогда же начались разные недоразумения на суконной фабрике
Торнтона, вызываемые главным образом понижением расценок. Было желательно в
предполагаемых листках выразить то, что больше всего интересует самих рабочих,
и, так сказать, оттенить по возможности ярче те требования, которые являлись бы
требованиями большинства выбранных руководителей, к организации
(социалистической) не причастных. Для этого через одного рабочего их собирали на
конспиративной квартире, куда являлся один интеллигент поговорить с ними и
узнать точно их настроение. Переговоры не удались, так как торнтоновцы не хотели
говорить с человеком, им не известным, подозревая какую-то ловушку для себя, и
никакие уверения ни к чему не приводили, они просили только составить хорошее
прошение к градоначальнику, к которому намеревались пойти. Но писать слёзное
прошение было не в интересах партии, да и было совершенно напрасно, ожидать
какой-либо пользы от такого прошения. Ввиду этого материалы, собранные через
одного торнтоновца (теперь прохвоста), были обработаны в виде листка. Листок был
признан и этим рабочим и нами удовлетворительным. Он был оттиснут и потом
подкинут во многих экземплярах на фабрике. Это было началом энергичной агитации.
Вскорости же были выпущены листки на Путиловском заводе. Экземпляр для
ознакомления был доставлен и мне, за Невскую заставу. Один товарищ во время
работы отправился в ретирад с этим листком и с бутылочкой гуммиарабика. Уловив
момент, когда никого не было, он налил на руку гумми-арабик, размазал ладонью по
стене и, приклеив листок, сейчас же ушёл в мастерскую. Пробыв там {65} около 15 минут, он не мог выдержать дольше и отправился
посмотреть, что стало с его листком. Оказалось, что у наклеенного листка стояло
человек пятнадцать, и один старался прочесть вслух листок, но у него плохо
выходило, и потому, протиснувшись вперёд, товарищ громко и с подчёркиваниями
прочёл присутствующим листок. Все были очень довольны, и ретирад набился
полнёхонек, чтение не прекращалось; всякий уходил в мастерскую и посылал других.
Хождение продолжалось почти два часа, и все ознакомились с листком. Наконец,
администрация узнала об этом и приказала листок сорвать, но, пока было много
народу в ретираде, сторож боялся срывать, одинаково боялись срывать и многие
другие противники. Этот случай особенно расположил меня и товарища к такой
деятельности, и мы стали частенько класть в ретирад, в укромное место, брошюрки
и листки, откуда они очень аккуратно исчезали спустя очень короткое время.
Очевидно, кто-то ходил и незаметно уносил и даже настолько аккуратно, что наши
наблюдения нескоро привели к цели. Зорко присматриваясь, мы, наконец, заметили
человека, который незаметно подходил, осторожно совал находку в рукав и сейчас
же уходил с нею из ретирада.
В начале зимы произошло одно собрание из выборных рабочих в количестве,
кажется, шести человек. На этом собраний читался листок, который вскоре должен
был быть напечатан на гектографе и распространён на всех заводах и фабриках, но
он ещё был не закончен и требовал, некоторых поправок. Тогда же было заявлено,
что эти собрания должны происходить регулярно, кажется, не реже двух, раз в
месяц; представителем на эти собрания от интеллигенции являлся тот, кто читал
упомянутый листок. В этом можно было видеть, что организация принимала всё новые
и новые формы, приспособляясь к агитационной деятельности, но в то же время
работа велась очень конспиративно,— в этом чувствовалась необходимость. Часть
интеллигенции была, очевидно, выделена для выработки упомянутых листков и
сношений по более конспиративным и организационным вопросам с рабочими, другая
занималась в кружках, но точно я, конечно, про интеллигенцию не знал — кто и чем
был занят. Важно только, что в то время шла очень усиленная работа как у
рабочих, так и у интеллигенции. Но все же при столь крутом повороте от кружков к
агитации не замечалось {66} особых недоразумений и споров:
очевидно, что, продолжая ещё более энергично свою деятельность, кружки как раз
соответствовали самой правильной постановке дела, и только такая постановка
может считаться вполне удовлетворительной. Где при агитации забрасываются
кружки, там работа переходит на ложный и вредный путь, который справедливо
породил у развитых рабочих резкие осуждения. Это не только не даёт развитых
рабочих, но и сама интеллигенция без занятия в кружках становится менее
культурной и менее знакомой с душой рабочего.
Как год тому назад я положительно целиком был занят восприниманием разных
хороших слов и учений от интеллигентов и в школе— от учительниц и изредка
появлялся на собраниях, несмелый и стеснительный, так теперь приходилось всюду
проявлять самостоятельность, приходилось разрешать самому всякого рода вопросы,
возникающие в кружках, на фабриках и заводах и в школе. Иногда и чувствуешь, что
ты не очень компетентен, но говоришь, советуешь, разъясняешь только потому, что
лучшие и умные руководители уже высланы, и раз пала обязанность быть передовым,
то отговариваться было невозможно. Не думаю, чтобы с моей стороны не было
промахов, но следить за собою самому очень трудно, всё же мною была употреблена
в дело вся энергия и предусмотрительность.
Отправился как-то я после работы за Нарвскую заставу по делу и увидел в
домашней обстановке тамошних деятелей, о которых постоянно говорили, как о людях
умелых, могущих быть примерными, да и они сами часто распространялись по этому
поводу, и что же? Моё впечатление было далеко не в их пользу. При всём желании
увидеть или услышать что-либо новое, что можно было бы перенять и перенести к
себе за Невскую заставу, дабы ещё лучше шла работа у нас, я там не нашёл,
словом, ничего свежего, и потому часть веры, питаемая мною к ним, как к
примерным работникам, значительно охладела, и потому ещё сильнее предался я
своему делу за Невской, мало знакомясь лично с работой в других местах. Я в то
время хорошо знал положение дела за всей Невской заставой, и потому для меня
особенно ярко вырисовался подъём после первых листков и брошюр, пущенных в
широких размерах во всём этом районе. Полученные листки и потом брошюры были
распространены по {67} заводам и фабрикам очень удачно, и
даже никто не был замечен в распространении, что, конечно, только ободряло нас,
и мы ждали всё новых и новых произведений для массы. Эта деятельность сейчас же
оживила публику, и по фабрикам пошли слухи о скором бунте. «У нас все говорят,
что будет бунт после нового года, непременно будет!» — говорил мне один
фабричный заурядный рабочий, не принимавший никакого участия в нашем деле.
Другой, заводский, прямо спрашивал у меня побольше литературы, указывая на то,
что на заводе, где я работал, было постоянно мною раскидано много листков и
брошюр, а у них — мало. Я не мог дать ему литературы, в виду того, что совсем не
знал его и раньше никогда не разговаривал с ним, а спросил на этот раз его
мнение исключительно с желанием узнать, как думает заурядный человек, никогда не
бывавший ни в какой организации. В то время ставилось требованием, чтобы всякий
из нас входил в массу и узнавал её истинное мнение, эти люди и были для меня,
как личности массы.
Думаю, что необходимо упомянуть об интеллигенции, ходившей в наши кружки. П.
И. в эту зиму ходил довольно редко, и то больше ко мне но он доставил двух лиц,
которые взялись с увлечением за кружки и несли свои обязанности; как люди,
преданные делу, они пользовались любовью своих слушателей. Была одна группа,
которая настойчиво просила себе кружок; после долгих переговоров ей дали кружок,
но вместо того, чтобы быть конспиративными и заниматься в кружке, они являлись
постоянно вдвоём и не столько занимались делом, сколько разными расспросами и
наведением критики на неудовлетворительность постановки дела. Руководивший
кружком, а потом и слушатели стали настойчиво жаловаться на бесполезность
подобных занятий... Третья группа интеллигентов, самая большая, подготовлялась к
агитации и была знакома со всеми петербургскими делами. Она руководила
агитацией, т. е. доставляла листки, брошюры и знала, где они будут
распространены. На местах делом руководили рабочие, которые передавали
литературу во все заводы и фабрики для распространения. На каждой фабрике, на
каждом заводе действовал только один такой рабочий. Он знал, сколько, куда нужно
дать, он же знал день, в который листки будут распространены, и т. д.
Упомянутые, две группы чрез посредство нас делали {68}
попытку к слиянию, но это не удалось благодаря общему провалу.
В декабре около 5-го числа сделан был набег, и интеллигенция и часть
известных рабочих была взята. Ареста ожидали, но не так скоро и не в таком
широком размере. Конечно, это произвело очень сильное впечатление на меня, но не
такое сильное, как если бы это случилось раньше; я уже привык к арестам и
переносил их довольно спокойно. В школе на лицах учительниц можно было видеть
почти слёзы и страх, страх скорее за дело, чем за себя. Общее впечатление,
конечно, было очень тяжёлое; прекратилась работа в смысле доставки литературы и
листков, местами на целые районы приходилось смотреть, как на прекратившие
всякое существование в смысле революционной деятельности; нужно было вновь
завоевать эти места, но сил не было, местами прекратились занятия в кружках, это
же частью происходило и у нас. У нас было взято трое рабочих, особенно
чувствовалось отсутствие Н. И все же наш край мог продолжать деятельность, не
чувствуя особого ущерба в работниках по заводам и фабрикам; недостаток являлся
со стороны интеллигенции, которая не могла так скоро оправиться, но всё же через
неделю уже начались правильные собрания и наладилась связь. В это время
товарищам пришлось немало положить энергии, дабы сломить моё упорство; Я
положительно восстал против агитации, хотя видел несомненные плоды этой работы в
общем подъёме духа в заводских и фабричных массах, но я сильно опасался такого
же другого провала и думал, что тогда всё замрёт, но я в данном случае ошибался.
Знай я, что будет продолжаться эта работа после моего ареста, я, конечно, не
спорил бы по поводу агитации. Я очень удивился, что меня оставили на свободе; ;
видимо, меня не арестовали с корыстной целью, желая выследить мои связи, но это
полиции не удалось. Между тем товарищи меня уломали, и я, наконец, согласился
продолжать вести агитацию. Чтобы доказать силу нашей организации, мы
распространили на Чугунном, заводе, на фабриках Максвеля и Паля несколько
брошюр: «Кто чем живёт?», «Что должен знать и помнить каждый рабочий»,
«Конгресс» и ещё одну, названия не помню, в довольно большом количестве и
наделали этим очень много шума. Полиция и жандармы продолжали работать, но это
только подзадоривало нас, а уверенность {69} и мужество
вселялись в читателя на фабриках и заводах. Пошли разговоры и рассуждения, и,
видимо, волна недовольства скоро должна была; хлестнуть через борт. Несмотря на
то, что в это время через школу ничего не делалось, но старший мастер фабрики
Максвеля, Шульц, прямо указывал на школу, как на причину всех этих явлений. Он
же всё посылаемое ему по почте передавал жандармам и, конечно, следил зорко за
своими рабочими. На заводе многих арестовывали или записывали за чтение
подброшенного. Интереснее всего, что подбрасывающий действовал во время работы и
настолько смело, что просто приходилось удивляться его смелости, и при этом не
был ни разу замечен даже своими рабочими по партии, хотя постоянно подбрасывал
по всем мастерским один, иногда бросал в котёл, в котором сидело человека
три-четыре. Эти, последние, увидавши брошенное, никогда не спешили посмотреть,
кто бросил, а сначала удивлённо рассматривали подброшенное и затем, поняв суть
дела, осторожно начинали читать, а по прочтении иногда уничтожали листки, но это
происходило очень редко и у самых боязливых рабочих.
На Семянниковском заводе однажды листки не появились благодаря загадочному
случаю, именно: рабочий, получивший листки вечером, спрятал их в одном месте до
утра, но когда утром пошёл на работу и хватился листков, то их уже не оказалось
там, где он их клал. После этого пришлось быть ещё более осторожными, но до
моего ареста ничего выяснить так и не удалось, и пропавшие листки возвращены не
были. Меньше чем в месяц было разбросано довольно много брошюр и листков, и на
этой почве даже возникло несколько недоразумений и обид: некоторые рабочие
жаловались, что им меньше дают брошюр, чем на другом заводе; оно отчасти так и
было, брошюр не хватало, но я был уверен в скорой доставке таких же брошюр и
думал тогда шире пустить их по фабрикам. Способ распространения на заводе был
разнообразный: некоторым совали в ящик с инструментами или клали на суппорт
станка, некоторым вкладывали в карман пальто, что было очень легко и просто
выполнить, клали в такое место, куда часто, за чем-нибудь приходили рабочие,
иногда бросали к рабочим в котёл (в котельной мастерской), очень удобно было
подбрасывать в разные части ремонтируемых паровозов, где рабочие потом находили
их {70} иногда спустя несколько часов после начала работы.
В это время; начиная от самого Обводного канала, около часовни у моста, где был
маленький заводик, и за село Александровское, не было ни одного большого завода
или фабрики, где бы не появлялась нелегальная литература, благодаря тому, что
всюду были свои люди; особенно много было своих людей на фабриках Паля и
Максвеля и, если оттуда выхватывали одного или двух человек, то дело продолжало
идти своим порядком, и вообще за один месяц потери уже пополнялись. Нужен был
только хороший руководитель...
После огромного провала спустя недели две-три всюду опять наладились
сношения; всюду закипела живая работа в кружках и агитация листками и брошюрами.
Спустя четыре недели после упомянутого провала я получил довольно много листков
общего характера, где говорилось о набеге, произведённом жандармами, и о том
способе, который правительство употребляет на борьбу с самосознанием рабочих.
Получивши эти листки, я почувствовал, что распространение их будет последней
моей работой. Постаравшись распределить листки соответственно количеству
работающего люда на фабрике и заводе, я разнёс и роздал известным мне лицам эти
листки, узнав, в какой час приблизительно они будут раскинуты. Доверенные лица
сейчас же взялись за работу: кое-кто побежал за материалами для составления клея
или гумми-арабика, дабы лучше наклеивать листки в общих местах. Раздав таким
образом листки; попрощавшись с товарищами и предупредив их о возможности моего
ареста, я сказал, чтобы они не приходили ко мне на квартиру, пока я сам не
явлюсь к ним. Уже в одиннадцать часов вечера я сел на идущую в парк конку и
поехал: в село Александровское; направляясь на квартиру к товарищу, где меня
поджидали. Отдав листки для Обуховского завода и др. и пожелав им благополучно
продолжать работу, я сказал о своей уверенности, что после этих листков я буду,
наверное, арестован, и спокойно отправился домой с полным убеждением, что завтра
утром по всему Шлиссельбургскому шоссе на фабриках и заводах будут
распространены листки. Конечно, оно так и было. Всюду приходилось полиции
усиленно работать, отыскивая виновников этого распространения и немало
непричастных людей попало в подозрение.
{71}
Прошёл день, вечером я никуда не пошёл, остался дома и приготовился к обыску,
так был уверен в нём. И действительно, только что я заснул, как слышу тревожный
стук в двери. Хозяин, недоумевая, пошёл торопливо открывать дверь, а я мог
сказать себе, что больше я за Невской уже не работник. В дверь комнаты ворвался
околоточный надзиратель, а потом с извинениями и с лисьим достоинством вошёл и
либерал-пристав Агафонов, заявив, что он пришёл только произвести у меня обыск.
Но когда при тщательном обыске ничего у меня преступного не оказалось, то он
также ласково заявил, что всё же должен меня арестовать, но что, мол, это
пустяки и меня дня через два-три выпустят. Я, конечно, ко всему был готов, и это
особого действия на меня не произвело.
Когда гасили утром на петербургских улицах фонари, то я с околоточным
надзирателем и ещё одним арестованным подъезжал к дому предварительного
заключения. Я знал, что сидевший со мною арестованный совершил единственное
преступление: отнёс в проходную контору всунутую ему в карман пальто книжку и
передал жандарму, и за это его арестовали. Таковы иногда убеждения у жандармов о
виновности некоторых лиц. Я знал также, что и другие арестованные столь же мало
принимали участия в распространении, как и сидевший против меня молодой рабочий,
зато я был уверен, что те; кто распространял на самом деле, те не арестованы и
продолжают спокойно спать на своих кроватях. Наконец-то и мы в предварительном
заключении. Громаднейшее здание внушило с первого же взгляда к себе ненависть,
но пришлось поближе ознакомиться с ним и сжиться с его привычками и уставами, а
тринадцатимесячное с лишним заключение заставило пережить все волнения,
возникавшие за это время. За всё это время не пришлось перекинуться ни единым
словом ни с одним из товарищей, тут же рядом сидевшими и, подобно мне, одинаково
молчавшими, поддерживая гробовую тишину в продолжительные и длинные месяцы. Этим
заканчивается моё воспоминание о деятельности в С.-Петербурге за Невской
заставой.
II
В начале весны 1897 года я поселился в Екатеринославе. После
тринадцатимесячного пребывания в петербургской тюрьме проехать свободным
человеком почти через всю Россию было большим удовольствием, а оказаться в южном
городе с началом весны было положительно приятно. Bce ново вокруг, и люди
совершенно как-будто иные, не те, что остались там, далеко, в северной столице;
суровые тюремные стены не мозолят больше привычного глаза, всё дышит свободно,
легко, а там — за другой улицей — уже широкая необъятная степь, манящая к себе
свободного от работы человека.
По прибытии я выполнил необходимые формальности, поставив себя под бдительное
око местной полиции, причём имел удовольствие слышать неудовольствие
полицеймейстера, обращенное ко мне по поводу избрания мною данного города, и
обещание кормить меня не мёдом, а чем-то другим. Я стал поджидать бумаг из
Питера, после прихода каковых мне обещали выдать свидетельство на жительство. В
ожидании этого я присматривался к местной жизни и заводским порядкам, узнавал о
возможности поступления на работу, о заработках; о продолжительности рабочего
дня я уже знал благодаря тому, что поселился в квартире одного
рабочего-молотобойца, еврея. Видя, что всюду строятся всё новые и новые заводы,
я проникся уверенностью, что поступить мне будет очень нетрудно, и потому, пока
спокойно продолжал выжидать выдачи свидетельства.
Спустя недели три, наконец, пришли мои бумаги и за особым номером оказались у
секретаря полицейского {73} управления, который написал
свидетельство и, приложив печать, выдал его мне; я дал подписать его помощнику
полицеймейстера и вышел из полиции с надеждою долго не обращаться в это
учреждение. Однако свидетельство оказалось далеко не удовлетворительным и
вызывало недоумение паспортистов и квартирных хозяек. Всё это доставило мне
много хлопот. Мои хлопоты о выдаче настоящего паспорта не увенчались успехом.
Пришлось мириться с этим и жить без паспорта.
Ещё в самом начале по моём приезде в Екатеринослав я ожидал приезда одного
человека, с которым мы условились встретиться на одной из площадей города Екатеринослава. Напрасно я ходил на эту площадь в условленные дни, знакомый человек
не являлся, и я очень жалел о такой неудаче. После оказалось, что он не попал в
Екатеринослав, а выхлопотал себе совершенно иной город. Таким образом,
единственная надежда встретиться с знакомым человеком одних мыслей совершенно
рушилась, а других знакомых — ни единой души, поэтому немудрено, что я начал
невольно скучать, а к этой скуке присоединилась неудача в поступлении на завод.
Средства начинали истощаться, а впереди — ничего приятного. Вставая, утром
часов в пять, я отправлялся к какому-либо заводу и уже заставал там громадную
толпу безработных людей. Иногда я держался несколько в стороне, иногда входил в
самую середину этой толпы и сливался с ней. Большинство, конечно, были
приехавшие из деревень и главным образом орловцы. Они имели здесь земляков и
надеялись при их помощи получить работу, что в большинстве случаев и удавалось;
я часто видел выходивших с работы людей, которые день или два тому назад стояли
со мной за воротами завода. У меня никого не было знакомых, и мои обращения к
директору или мастеру с вопросом о работе постоянно кончались неудачей.
На другой месяц моего пребывания в Екатеринославе, как-то утром, придя с
ночной смены, квартирный хозяин привёл с собой подвыпившего рабочего с завода.
Пришедший назвался товарищем и, подняв меня с постели, которая заключалась в
тонкой подстилке на полу комнаты, потащил меня на свою квартиру. На этой
квартиле я встретился с двумя питерцами, попавшими сюда при таких же условиях,
как и я. Один из моих новых знакомых {74} был заводский
мастеровой модельщик, а другой — фабричный мальчик, но уже в летах (ему был
20-й). Этот последний мне особенно понравился как своим простоватым характером,
так и теми рассказами, в которых он охотно и с большим увлечением передавал о
всех перипетиях известных петербургских стачек и о той роли, которую ему
приходилось там выполнять. Он первый подробно познакомил меня с широкой волной
стачечного движения, прокатившейся по всем петербургским фабрикам, и только
тогда я поверил, что начало агитации не было напрасным и что прав был рабочий
Максвельской фабрики, когда говорил, что после нового года будет непременно
бунт, и если не произошло бунта, а была стачка, то, значит, мысль рабочих за это
время сделала огромный шаг вперёд.
А этот простой парень Матюха (назовём его так для простоты) являлся самым
типичным представителем массы, он ничего не знал, кроме элементарных понятий,
полученных в деревенской школе, и сначала с трудом прочитывал листки,
подбрасываемые на фабрике, а потом и сам принял активное участие в подбрасывании
листков и агитировании за стачку. Попавши в высылку, он жалел только об аресте
знакомых ему лиц и о том, что это может повредить движению, и весь горел пылом
петербургского стачечного воодушевления.
Матюха привлёк все мои симпатии, так как я нашёл в нём удовлетворение моих
живых потребностей в слове и деле. После этого знакомства я почувствовал особую
бодрость, и скука совершенно пропала, изредка разве появляясь под влиянием
сознания, что я нахожусь без дела. Но меня уверила в возможности скорого
поступления на завод, на котором работал человек, разбудивший меня утром на
квартире. Позднее я узнал, что из Петербурга выписано несколько рабочих разных,
специальностей для нужд завода. Выписанные рабочие приехали на свой счёт, но
никаких особых привилегий на заводе не получили и, будучи, таким образом,
одурачены, подумывали о возвращении обратно в Петербург. Не имея денег, они
продолжали пока работать, а затем понемногу втянулись в местную жизнь и
постепенно стали забывать про Питер.
Познакомившись с земляками и товарищами по мысли, я стал их .частенько
посещать, приглашая также {75} и к себе, и наделял их
книгами из привезённых с собой. Течение жизни пошло живее.
Как-то вечером мне сообщили, что утром я должен пойти на завод сдать пробу.
Эта весть была очень приятна. Утром, чувствуя себя очень взволнованным, я
отправился на завод с жаждой начать работать. После года и восьми месяцев
перерыва в интенсивной работе я, по понятной причине, волновался и ожидал своей
пробы с особым напряжением. Пришёл мастер-итальянец, не понимающий ни одного
слова по-русски, и товарищ, устроивший мне протекцию, указал ему на меня.
Молча, покуривая сигару, смотрел на меня итальянец, измеряя своим взглядом и
делая свои заключения про себя. Минут через десять я получил пробу, т. е.
работу, которую я должен был выполнить насколько мог лучше, дабы, глядя на неё,
мастер мог сообразить, насколько я хорошо работаю, и положить, глядя по этому,
жалованье. Получивши пробу, я сразу принялся энергично за работу; работать пилой
(напильником) по стали довольно трудно. Прошло часа два, и моя работа
подвинулась, но, к великому моему удивлению и несчастью, я почувствовал, что
выполнить этой работы не в состоянии, и мной сейчас же овладело отчаяние.
Дело в том, что ещё до тюрьмы я продолжительное время не работал напильником,
а тринадцатимесячное пребывание в тюрьме окончательно испортило мои руки и
сделало их непригодными к работе. Мои руки сделались барскими, трудно на них
было отыскать хоть одну мозолинку, а для рабочего мозоли — тот спасающий
панцырь, который позволяет безвредно сносить всякие уколы и трение стали об
кожу, вызывающие у нерабочих боли. Не проработав ещё и двух часов, я
почувствовал на ладони правой руки сильную боль, я старался как можно меньше
обращать внимания на это и продолжал работать, однако вздувшаяся мозоль сильно
болела и мешала работе.
В этой же мастерской работал только что поступивший бывший петербургский
рабочий, сидевший уже год в «Крестах» и отбывший надзор. Он узнал, что я
петербургский и притом поднадзорный, только недавно прибывший в Екатеринослав.
Перекинувшись несколькими словами, мы поняли друг друга, и я ему передал о моём
горе; он посочувствовал и велел бросить работу, но я продолжал работать. Когда
лопнула на ладони мозоль и {76} из руки начала сочиться
жидкость, я и тут ещё не терял надежды довести дело до конца и, обвязав носовым
платком руку, продолжал работать. Но всё было напрасно: рука, потеряла свою
силу, напильник приходилось держать несколько иначе, от чего работа могла
затянуться. Всё же я работал, хотя всё сильней и сильней чувствовал
необходимость бросить работу, наконец, не выдержал и сдался. Я сказал
переводчику, чтобы мне позволили кончить пробу спустя дня три-четыре; он передал
мою просьбу итальянцу, который понял так, что я испугался пробы и, значит, не
могу работать. Догадавшись о его мыслях, я показал руку в доказательство
причины; по которой я не могу работать, тогда он поверил и сказал что-то
переводчику, который передал мне, что механик просит передать о том, что я слаб
для их работы, и потому мне уплачивается стоимость сегодняшней работы, но я им
не нужен.
Что я мог возразить против этого? Конечно, ничего, и потому, чувствуя горькую
обиду, получил 80 копеек (подённо было отмечено 1 рубль 20 копеек) и с отчаянием
ушёл к себе на квартиру, совершенно упавший духом. «Каким образом,— думал я,—
поступлю я теперь на другой завод? Ведь там такая же проба заставит натереть
новые мозоли, и мне опять будет отказ, как слабому человеку, негодному для
заводской работы». Я изыскивал способы добиться мозолей на ладони, но ничего не
мог придумать. Моя рука болела недели две; затем я попробовал вертеть ладонью по
палке, чтобы натереть мозоли, но это, наконец, надоело, и я бросил.
Как-то, идя по платформе вокзала, я встретил своего товарища но Петербургу, с
которым я встречался на общих собраниях петербургских рабочих. Мы обрадовались
друг другу и разговорились; оказывается, живём уже третий месяц в
Екатеринославе, а не знаем друг про друга, и только случайная встреча свела нас
и заставила вспомнить про наше сиденье в предварилке и про многое другое.
Оказалось, что мы находимся в одинаковых полицейских условиях и в одно время
будем ждать окончания полицейской опеки. Поговоривши с ним кое о чём, я передал
о своём знакомстве с питерцами и обещал как-нибудь его свести с ними; на этот же
раз мы встретили рабочего, который познакомился со мной на заводе во время моей
неудачной пробы, и мы направились к нему {77} на квартиру.
Таким образом, оказалось, что нас, петербуржцев, уже трое, и мы скоро сошлись
довольно тесно. Наконец, мне удалось поступить на Брянский завод, а знакомый
старый питерец поступил на маленький заводик мастером, и в скорости удалось там
же устроить и другого товарища и, наконец, Матюху, так что мы все чувствовали
себя довольно хорошо. Скоро мы узнали ещё одного питерца, высланного в
Екатеринослав на два года и работавшего уже на одном заводе. Часто видаясь друг
с другом, мы решили, наконец, устроиться более тесно и для этой цели сняли
комнату, в которой и поселились втроём, в том числе и я.
К этому времени у меня произошли недоразумения с мастером, который попробовал
стращать меня штрафом, а я заявил, что штрафов не принимаю, и у нас с ним дело
кончилось общей схваткой, в результате которой я отрабатывал две недели. За
короткое пребывание на этом заводе я нашёл здесь одного хорошего и дельного
человека Г. [Г. И. Петровского.— Ред.] Этот Г. привлёк моё внимание
давно, и у меня с ним часто происходили продолжи тельные беседы, которые
располагали нас положительно жить по-питерски.
В это же время я встретился через посредство Матюхи с человеком преклонных
лет, с большим семейством, старым работником, хорошим мастеровым, заражённым
кооперативным социализмом. Идеалом этого человека было — открыть общественную
лавочку, чтобы из неё выросла впоследствии хорошая, прочная и сильная
организация, могущая давать средства для борьбы с капиталом. Как: и все
увлекающиеся люди, этот старичок был увлечён мыслью создать такую лавочку и
потому часто говорил со мною на эту тему. Я же задавался целью разыскать все
старые силы существовавшей организации и тогда начать что-либо делать, а покуда
продолжал расширять круг знакомых, что мне легко и удавалось. Воскресенья у меня
опять были заняты, я должен был делиться своими знаниями с молодёжью, которую
мне собирал иногда Г. Правда; он и сам нуждался во всестороннем развитии и для
этого по вечерам бывал у меня, но тут главным врагом была знакомая мне система
сверхурочных часов. Хотя я видел, что Г. физически сильно утомляется от такой
работы, но не мог сильно настаивать на непременном оставлении ночных работ, так
как он {78} нуждался ещё в выучке быть хорошим работником
и, кроме того, его заедала семейная обстановка, требовавшая непременной и
сильной его поддержки в экономическом отношении. Таков был мой главный помощник
в будущем.
Как я уже говорил, месяца три по приезде в Екатеринослав, я ровно ничего не
мог делать за неимением возможности бывать на заводе, а заводить так знакомства
не удавалось, да и настроение было не таково, чтобы немедленно броситься в
водоворот кипучей жизни. Познакомившись с новыми друзьями и начавши жить своей
тесной кружковой жизнью, которая была довольно живой и весёлой, мы совершенно не
заметили, как прошло всё лето и наступила осень. Не имея особой работы, я
вспомнил петербургские вечера в школе и не вытерпел — записался в вечерние
классы черчения и рисования, а за мной и друзья, но это была довольно большая и
тяжёлая ноша для обременённого человека. Школа была в 40 минутах ходьбы от
квартиры; такая прогулка, далеко не могла составить удовольствия после дневной
суетливой работы. Мои товарищи скоро отстали, и я продолжал один ходить и,
может, долго ходил бы, если бы школа была интересной, тогда как она для меня —
питерца, избалованного воскресной школой за Невской заставой,— являлась далеко
не удовлетворительной. Притом часто вечером заходили к нам в комнату
побеседовать старичок, а потом ещё один человек, которого я назову Д. Этот
последний познакомился с нами, уже не помню каким образом, и за последнее время
стал посещать нас довольно часта Он мне, определённо, не нравился, но я,
впрочем, этого не высказывал.
С этими-то новыми знакомыми мне и приходилось иногда беседовать. Особенно
моими симпатиями пользовался старичок, который, видя неконспиративность нашей
комнаты, не очень охотно беседовал и, прощаясь, постоянно приглашал меня к себе.
Я заходил иногда к нему, но чувствовал себя у него неважно. Приходишь иногда к
нему: он сидит и толкует со своей женой — довольно грузной, сырой женщиной.
После приветствия приглашает меня пройти в переднюю комнату, откуда сурово
выгоняет своих детей, и затворяет дверь. Когда мы остаёмся вдвоём, то говорим
вполголоса или шопотом, дабы не только соседи, но и его семейные не могли
услышать {79} ни одного слова из нашего разговора. Иногда
кто-либо из семейных случайно входил в комнату, тогда старичок ругался, выгоняя
их, и запирал на крючок дверь. Беседовали мы с ним и относительно книг, и
социализма, и заводских порядков, и вообще всяких дел; он передавал мне о старом
движении в Харькове, где он долго жил и откуда принуждён был уехать. От него я
узнавал о людях, могущих пользоваться доверием, орлицах, подающих надежды, и
людях опасных; словом, я старался извлечь из него возможную пользу. При наших
беседах, он часто сообщал о том, как он прячет легальные книги, дабы не
заметили, что он вообще любит заниматься «этими пустяками».
Разумеется, я видел неспособность этого человека примкнуть к современному
движению, да он и стар, чтобы реформироваться, но всё же было желательно дать
хоть какую-либо работу ему, чтобы не дать совсем заснуть его неглубокой мысли.
При случае такие люди смогут оказать услугу движению; при этом, конечно, опасно
пойти за ними, нужно, чтобы, хромая и ковыляя, они тащились за тобой, и тогда
дело не пострадает. Я именно так и старался поступать со старичком, и дружба моя
с ним росла. Вскорости я познакомился ещё с одним таким же старичком, только
моложе летами, оказавшимся человеком, у которого был план и цель, которые на мой
взгляд казались положительно утопичными и никогда не осуществимыми, но разбивать
идеал у человека, которому дать другого не сможешь, не стоит.
Так завязывались мои знакомства в Екатеринославе во вторую половину года
моего пребывания там. Д. всё продолжал ходить и что-то особенно присматривался к
нашей жизни; что меня часто бесило, и я иногда задавал вопрос товарищу: зачем
собственно ходит Д., что ему нужно от нас, если он только расспрашивает и ничего
не сообщает нам от себя. Если он желает входить в доверие, то пусть и сам
постарается быть более откровенным.
Наконец, я решил ему прямо поставить вопрос о цели его посещений, но до этого
не дошло.
Как-то раз товарищ сообщил мне о полученной от Д. брошюре, теперь уже не
припоминаю, какой именно. Мы решили прочесть эту брошюру сообща, но наша комната
была очень неудобна, и мы отправились в квартиру к старому петербуржцу, и,
оставшись там одни без {80} хозяина комнаты и квартирных
хозяев, познакомились с содержанием брошюры. Это была первая нелегальная вещь,
прочитанная нами в Екатеринославе после 6—7 месяцев жизни там, настолько ещё
слабо было поставлено там нелегальное дело. После этой брошюрки появились
другие: они мне особенно были нужны, почему я и схватился за них очень цепко.
После этого наше знакомство с Д. приняло более дружественный характер, и мы
часто делились с ним воспоминаниями о Питере.
Как-то Д. предложил нам собраться и обсудить один вопрос. Я и товарищ охотно
согласились и на той же неделе, собрались вчетвером в одной комнате, где были
поставлены вопросы о желательности сплотиться, о желательности проявить более
активно своё существование и приготовиться к собиранию материалов с заводов,
касающихся главным образом злобы дня. Чтобы не откладывать этого дела в долгий
ящик, решили сейчас же приступить к работе. Дальше решили, чтобы всякий не
только собирал материалы, но написал бы листок для завода, в котором он
работает, и такие листки решено было прочесть на следующем собрании, и если
признаем их годными, то оттиснуть их на гектографе и распространить. На этом же
собрании решили, что пока, за неимением большой работы, достаточно собираться
втроём; из нас двух выбор пал на меня, и с этого дня вплоть до благополучного
выезда из Екатеринослава через два года с месяцами я состоял неизбежным членом
таких собраний. Наши собрания стали повторяться довольно часто, и дело всей
технической стороны лежало на двух интеллигентах, постоянно являвшихся к нам,
как на собрания, так с листками или иными какими делами. Помню, что с самого
начала мы отнеслись с полным уважением друг к другу. Я и Д.— рабочие и два
интеллигента принимали живейшее участие в нашей организации. Д. являлся уже
человеком довольно опытным и работавшим давно, а главное конспиративным и очень
аккуратным. Я тоже имел уже опыт Петербурга и знал, как наилучше действовать.
Интеллигенты — люди, мало выдержанные,— сильно горячились, но это могло вредить
существенным образом только им, а не нам — рабочим.
Насколько я знаю, до нашей организации, положившей в основу начало широкой
агитации по всем заводам, существовала старая, организация, которую можно было
назвать организацией ремесленного характера и которая {81}
ничем особенно ярко себя не проявила. Мы же, раньше чем приступить к активной
работе, предначертали программу своих действий; для этого были завязаны связи со
многими заводами и даже с находящимся в 30 верстах от Екатеринослава Каменским.
Происходили правильные сношения с заводами Каменского, готовились отдельные
листки, но они приурочивались к одному моменту, т. е. к дню, в который листки
будут распространены в Екатеринославе:
Ещё раньше чем мы начали агитационную работу, я чувствовал необходимость
нанять отдельную комнату, дабы легче соблюдать конспирацию, и хотя в этот момент
уже потерял место, всё же снял недорогую комнату. Конец 1897 и начало
1898 года были блаженными временами в Екатеринославе для лиц,
распространявших листки. Нужна была только смелость выйти ночью на улицу и,
никого не встретив — ни городового, ни дворника, ни провокатора, ни шпиона,
которые мирно спали,— заняться разбрасыванием листков. Мы хорошо воспользовались
этим обстоятельством и благополучно возвращались домой, кой-где иногда встречая
ночного сторожа, после хорошо сделанной работы.
Как-то вечером получились первые листки, предназначавшиеся для
Екатеринослава, Заднепра и Каменского. Нужно было в ночь их распространить;
нельзя сказать, чтобы их было много, скорее можно сказать обратное, и потому
решили добрую половину расклеить. Я передал товарищу, чтобы он приготовился
сегодня же вечером пойти со мной на работу не раньше одиннадцати часов.
Порядочный морозец для Екатеринослава скоро прогнал с улиц всякую лишнюю
публику, и сторожа стучали изредка в колотушку, давая знать о месте своего
присутствия, а постучавши, садились в уголок, чтобы погрузиться в приятную
дремоту.
Луна довольно высоко взобралась, когда мы вышли с товарищем с листками в
карманах и с большой кружкой приготовленного клея. Миновали площадь, перешли
железную дорогу и очутились в посёлке, называемом «Фабрика», населённом
рабочими. Осмотревшись и не видя никого; помазали забор, и листок тотчас же
плотно пристал к клею. Мы осторожно переходили дорогу, намазывая стены хат и
наклеивая листки, потом в разных направлениях положили по листку на землю или
воткнули {82} в щели забора. Затем мы продвинулись в другой
квартал, где повторилась, та же история, только скоро нечем стало мазать, и
потому пришлось втыкать листки в щели забора.
Товарищ во время работы распространения и клейки листков сильна волновался и
вообще чувствовал себя не особенно смелым, но всё же продолжал выполнять
добросовестно свою работу. Через какой-нибудь час у нас не оказалось ни одного
листка, и мы спокойно направились по домам, не обратив, таким образом, ничьего
внимания на нашу своеобразную работу.
Утром идущие на работу мастеровые, увидевши валявшиеся на улице листки,
подымали или брали их с заборов; таким образом, листки скоро были подобраны, и
публика начала останавливаться около заборов и читать наклеенные листки.
Некоторым листки настолько понравились, что, желая взять их с собой в
мастерскую, они старались отодрать листок со стены и порвали, таким образом,
большую часть листков, не воспользовавшись сами и не дав возможности читать
другим; благодаря этому в дальнейшем мы пришли к заключению, что клеить не
стоит, так как довольно много риску, да и медленно идет работа, а толку мало:
всё равно большую часть срывают. Мы с товарищем взяли только один район, в
котором, нужно было распространять листки, но кроме нас были ещё работники,
которые выполняли эту работу в других местах, и всё же нас было довольно мало,
чтобы можно было хорошо и всюду распространить листки...
При самом предположении о необходимости распространения листков был поднят
вопрос о возможности распространить листки по заводам; при этом оказалось, что
мы сможем распространять их только на двух заводах, тогда как самые большие три
завода и железнодорожные мастерские остались бы без листков. Принимая же во
внимание, что почти все мы были лица поднадзорные и легко могли навести полицию
на след виновников рапространения, пришлось употребить тот способ
распространения, о котором я упомянул выше.
Полиция узнала о появившихся на улицах листках только на другой день утром,
но в её руки их попало очень мало. Для первого раза обошлось очень удачно, никто
из участников не был замечен.
{83}
Так обстояло дело в самом Екатеринославе и окраинах его, но ещё ничего не
было известно о Каменском. Наконец, пришло и оттуда очень краткое известие. Это
значило, что начало было очень удачным, и понятно, что оно подмывало нас
выпустить в ближайшее время и другие листки, но мы решили дать успокоиться
полиции и аккуратнее посмотреть друг за другом, не водим ли мы за собой шпионов,
так как я заметил, что-то сомнительное за собою. При внимательном наблюдении я
увидел одного простого человека, постоянно шатающегося недалеко от дома, в
котором я жил; очевидно, он присматривал за мной; тогда я стал за ним следить и
частенько неожиданно выходил из ворот дома и смотрел в его сторону.
Простой человек, в мужицкой шапке, в короткой тужурке или пальтишко,
продолжал по дням сидеть или крутиться всё на одном месте, повидимости, не
обращая никакого внимания на тот дом, в котором я жил. Чувствуя что-то недоброе,
я сообщил, чтобы никто ко мне не ходил, и сам старался высиживаться по целым
дням дома, а вечером выходил из комнаты, не гася лампы на случай, если вздумает
кто издали посмотреть в окно — убедились бы, что я, якобы, дома. Сам же
спускался в обрыв по забору, а потом спрыгивал и, очутившись сразу на далёком
расстоянии от своей улицы и зная, что никто за мной проследить не мог, я
отправлялся куда мне нужно. Возвращался же домой я обыкновенным путём, так как
взобраться вверх во обрыву было очень трудно, но это было не так уже опасно, я
часто пользовался этим способом и после. Недели две присматривал за мной
упомянутый субъект, но, видимо, дал, кому следует, наилучший отзыв обо мне, и я
продолжал спокойно работать и дальше.
Спустя около месяца после первых листков были приготовлены листки для
заводов, причём для каждого завода был специальный листок. Мы были уверены, что
они наделают много шума и могут повлечь за собой обыски. Полученные листки были
распределены так: одни предназначались для железной дороги, другие — для
Брянского, третьи — для гвоздильного, четвёртые — для Галлерштейна (завод
земледельческих орудий), пятые — для Заднепровских мастерских, кажется,
франко-русских, и последние — для Каменского. В общем было что-то около восьми
разных листков, и каждый отражал всевозможные {84}
злоупотребления и беспощадное обирание рабочих на том заводе, куда попадал.
Листки должны были быть разбросаны в ночь и рано утром, и чтобы днём знать о
благополучном исходе, каждый распространитель в известном месте должен был
сделать знак, благоприятный или обратный, если же знака нет — то человек должен
считаться арестованным. Знаки ставились мелом в условленном месте на заборе или
стене, и притом у всякого, был свой знак, чтобы не было однообразия. Этот способ
был очень удобен и конспиративен.
Поздно вечером, взявши Матюху, я отправился к одному заводу; спрятавши по
дороге часть листков, мы подошли к заводу. Проникнуть внутрь было очень опасно,
я даже мимо ходить нужно было очень осторожно, дабы не услышала дворовая собака.
Подойдя к двухэтажному зданию и перебравшись через решётку, мы очутились у окон
здания. Я приподнял Матюху к окну, он растворил форточку и швырнул туда пачку
листков. Таким же способом мы продолжали действовать и дальше, и листки были
брошены в три отделения, осталось только два; мы были уверены, что утром они
появятся, при помощи самих же рабочих, и в других мастерских. Действительно, как
только утром отперли мастерскую и собравшиеся мастеровые вошли туда, они сейчас
же принялись подбирать листки, валявшиеся на полу и на верстаках, я через
четверть часа листки читались всеми вплоть до мастера, и хотя до забастовки не
дошло, но недовольство было доведено до последней степени.
На другом заводе приходилось разбрасывать листки с большим трудом благодаря
тому, что завод работал целые сутки и рабочие всюду суетились, препятствуя
распространителю, но он оказался настолько терпеливым и сообразительным, что
пришлось, только руками развести. Отправившись утром на работу и захвативши
листки, он спокойно проработал целый, день. Когда в. семь часов все собрались
домой, он тоже собрался с другими, но не вышел за ворота, а прошёл к тому месту,
где рыли артезианский колодезь, и, спустившись в него, сел на лестницу и сидел
там целых пять часов до двенадцати ночи, когда останавливалась машина на ночной
обед для рабочих; затем наш добровольный узник осторожно поднялся кверху с
приготовленными, листками и ждал момента, когда погасят электричество. Этот,
момент был самый ценный, {85} ради которого он сидел пять
часов в яме. Сейчас же после остановки машины, приводящей в ход мастерские,
останавливалась электрическая машина для смазки. Лишь только электричество
погасло, как товарищ выскочил из ямы и вбежал в мастерскую, быстро разбросал
листки, рискуя наткнуться на какую-либо вещь в ночной тьме. Затем он вышел из
мастерской и бежал в другую или же вбрасывал листки сквозь разбитые стёкла, а
потом торопливо мчался к намеченному месту и уже при электрическом свете
перепрыгнул через забор и оказался вне опасности, никем не замеченный.
Электричество гасится на время от трёх до пяти минут, и в это время рабочие
спокойно сидят на верстаках или на чём другом, не соображая ничего о торопливо
идущем человеке, бросающем бумагу; когда же появляется свет, то всякий хватает
лежащий на полу или верстаке листок и принимается за чтение его. В это время
виновник, перескочивши через забор, разбивал стекло в конторе, совал туда листок
и уже после этого спокойно приходил домой и ложился спать. Утром, придя на
завод, он читал этот листок, как новость завода. Такой способ употреблялся
часто.
Ночью все власти спят, и листки отбирать приходят только утром, когда их на
заводе остаётся очень мало, когда они попали частью в украинскую мазанку, в
Кайдаки или Диевку, или же на Чечелёвку, так что полицейским иногда приходилось
довольствоваться тремя отобранными листками, что, конечно, не могло парализовать
производимых этими листками действий.
Точно так приблизительно подбрасывали листки и на других заводах, и везде
обходилось очень удачно, не вызывая никакого подозрения на виновников. На этот
раз листки произвели сильное действие, о них знали все рабочие, знала заводская
администрация, знала жандармская и городская полиция, но никто из них не знал
виновников распространения, и это ободряло нас на продолжение дальнейшей работы
таким же путём. На всех заводах между рабочими пошли слухи о скором бунте,
рабочие приободрились благодаря этим листкам, тогда как администрация, наоборот,
поубавила заметно свою спесь.
Помню, что на Каменском заводе в разбросанных листках требовалось учреждение
больничного покоя при заводе, и на другой же день был вытащен из цирульни {86} фельдшер и помещён при заводе; там же требовалось устроить
две выходных двери — и это было также удовлетворено; было ещё какое-то
требование — и тоже удовлетворено. Местный пристав (очевидно — становой пристав)
вообразил, что должна произойти какая-то стачка и, не зная, чего, собственно,
хотят рабочее, он схватился за листок, в котором были выставлены требования,
каковые безо всякой просьбы со стороны рабочих были тут же удовлетворены. На
некоторых заводах точно так же было удовлетворено много требований.
Обычно всякая заводская администрация старается уверять всех о самых
наилучших порядках у них на заводе, о довольстве рабочих условиями работы и т.
п. И вдруг такое разоблачение безо всяких замалчиваний о разного рода
злоупотреблениях! Рабочие, прочтя в листке то, что было на самом деле, и видя
наглядно справедливость указаний, проникались желанием положить конец хоть части
безобразий. Словом, стоячее болото начало рябиться, так что можно было ожидать
сильного волнения.
Странно было слышать толки рабочих о бунте, совершенно противоположные
листкам: в листках говорилось очень ясно о нежелательности бунта, который ничего
не принесёт рабочим, кроме вреда, между тем, прочтя листок, рабочий тут же
говорит: велят бунт устраивать. Настолько ещё сильны старые традиции борьбы:
рабочие ещё не представляли себе возможности стачки без того, чтобы не был побит
какой-либо мастер или разгромлена контора. Прислушиваясь к разговорам и входя
непосредственно в круг обсуждаемых вопросов, не приходится слышать упоминания о
какой-либо стачке, тогда как всякий рабочий расскажет какое-либо воспоминание о
бунте, и если при том упоминается о произведённых репрессиях со стороны
начальства, то это не производит никакого действия. Такие разговоры всегда
заканчиваются невысказанным желанием устроить хороший бунт. При этом, конечно,
вспоминают о каком-либо вожаке, которым искренно восхищаются. При таких
обстоятельствах, понятно, у массы самопроизвольно идеализируется не стачка, о
которой она ничего не знает, а бунт, так как этот способ протеста понятен для
каждого.
Листки заставили шевелиться заводскую публику, а у меня прибавилось работы.
Во-первых, пришлось собирать больше материалов для новых листков, а во-вторых,
{87} нужно было заниматься с моими знакомыми в Кайдаках,
часто по вечерам. Молодая публика не особенно хорошо усваивала мои мысли и
иногда истолковывала мои речи совершенно превратно; один только парень понимал
меня так, как и должно быть. Они просили ходить почаще и даже пытались снять
отдельную комнату для занятий. В этой группе мне пришлось столкнуться с двумя
людьми, близкими к народничеству... Больше всего возмущала меня их заскорузлая
система распространять свои взгляды чисто поповским способом, не терпящим
ничьего вмешательства. Они сердились чорт знает как, если какой-либо молодой
человек начинал выходить из-под влияния. Больше всего они злились на Г., который
якобы старается совратить молодых людей на путь ужасных социалистических и
революционных воззрений, и если человек заражался всё же этими воззрениями, то
они отвёртывалась от него и при случае подставить ему ногу считали далеко не
бесполезным делом. Работал один из народников на Брянском в механической
мастерской, получал приличное вознаграждение, имел собственный домик и жил
довольно недурно. Поэтому, видимо, неохотно проникался настоящим социализмом и
старался толочь в ступе воду. Я не раз пытался узнать их точные взгляды и нечто
вроде их программы, но никогда ничего добиться не мог, только разве что узнал,
как они стараются развивать своих хлопцев.
— Раньше чем читать «Спартака», нужно изучить историю Греции, тогда ты в
состояние будешь понять и этот роман,— говорил, один из народников молодому
мастеровому по поводу чтения им «Спартака». Вообще они сильно напирали на
естественные науки, и, я просматривая книги, полученные от этих господ, видел
чаще всего или сборник арифметических задач или курс грамматики, или что-либо в
этом роде. Когда же молодёжь спрашивала книгу посерьёзнее, то ей отвечали, что
это еще преждевременно, нужно, мол, раньше географию, арифметику, грамматику
знать, а потом уже браться за серьёзные книги. После этого понятно будет, почему
молодые люди постоянно жаловались на своих руководителей и неохотно штудировали
даваемые им книги.
Конечно, нельзя отрицать хорошей стороны и в учебнике, но это должно было
быть пройдено в школе, а не тогда, когда человек желает понять, суть его
социального {88} положения или интересуется рабочим
движением. Всё же немало было случаев, когда ученики народников забрасывали
своих учителей, но не могли отдаться целиком рабочему движению, где требуются
жертвы, так как они воспитывались своими учителями в эгоистическом духе
копеечной выгоды, тогда как социалистическое мировоззрение требует отказаться от
всякой копейки и даже стремиться к осуществлению уничтожения всякой копейки.
Помню рассказы товарища, как один из упомянутых народников преследовал его,
когда он входил при случае в мастерскую поговорить о ком-либо или
воспользоваться случаем и пропагандировать какого-либо знакомого. Бедняге
приходилось иногда пускаться на разные ложные приёмы, лишь бы только обмануть
своеобразное шпионство ретивого народника. При разговорах с народником этого
сорта мне постоянно приходила на память фраза петербургского товарища Н.,
сказанная по отношению одного рабочего-либерала в Петербурге.
«Как либерал, он ничего, очень хороший человек, но как рабочий-социалист — он
порядочная свинья». Это же самое можно сказать и про этих господ, перефразировав
только первую часть фразы. И таких-то господ иногда русские жандармы преследуют
и даже карают! Это только показывает, что полиции и жандармерии всякий пень
чёртом кажется.
Я решил не входить ни в какие отношения с упомянутыми народниками и просил
товарищей не говорить им обо мне, дабы они меня не знали. Я опасался возможности
распространения про меня разных слухов, благодаря которым мне трудно было бы
остаться неизвестным. Пользоваться же известностью при современных русских
условиях очень опасно, что, конечно, я отлично понимал, и, оставив в стороне
народников, конечно, имея постоянно за ними особое наблюдение, начал похаживать
на Кайдаки, где собирались тамошние хлопцы. Пробыв там часов до двенадцати, до
часу ночи, я отправлялся домой, провожаемый несколькими человеками до какого-то
яру, откуда я сам направлялся к Днепру, ёжась от сильного, пронзительного ветра
и мороза и держа наготове небольшой кинжал, так как ходить в таких местах не
безопасно, в чём я раз убедился, когда у меня отобрали деньги и еще какую-то
вещь. Знакомство на Кайдаках позволило мне потом пустить листки там, где они
раньше не появлялись {89} и где они потом не прекращали
появляться до самого моего прощанья с Екатеринославом, и уверен, что и после
этого.
Настала весна 1898 года, и мы остались сиротами. Уже вскоре после
появления листков началась сильная слежка за нашими интеллигентами, и им
следовало бы расстаться с этим местом, но, видимо, они были совершенно иного
мнения и твердили нам, что за ними никто не следит, и продолжали посещать нас и
готовить всё новые и новые листки для распространения.
Как-то раз у нас была назначена встреча по поводу какого-то вопроса или
получения листков. Мы пришли с товарищем в назначенное место, но никого не
встретили из своих и только заметили стоящего на углу улицы незнакомого
человека. Не обратив особого внимания на это, мы остановились и начали
беседовать. Мы стояли на площади довольно долго, и стоявший на углу человек
начал подозрительно присматриваться к нам. Обратив на него внимание, мы начали
обсуждать вопрос, не шпион ли это стоит. Я пошёл прямо на него, желая посмотреть
ему в лицо. Заметив это, он пошёл вдоль улицы, но вскоре свернул в один двор,
где и скрылся; дойдя вплотную до ворот этого дома и никого там не заметив, я
вернулся и сообщил товарищу, что, очевидно, это случайность, и мы продолжали
стоять на безлюдной площади, уже волнуясь и обижаясь на неаккуратность
товарищей. Наконец, товарищ пришёл, а вскоре за ним явился и интеллигент. Когда
нас собралось четверо и мы приступили к обсуждению какого-то вопроса, то тёмная
личность выросла опять поблизости и начала нагло и суетливо бегать вокруг нас. У
нас появилось сильное желание спровадить на тот свет шпиона, но ни у кого не
оказалось револьвера, тогда как он, видимо, был вооружён. Решили пустить в ход
холодное оружие, и все двинулись к нему. Догадался ли он об угрожавшей ему
опасности или просто думал, что мы будем пересекать площадь, но направился вдоль
этой площади довольно скорым шагом. Когда он был довольно далеко от нас, мы
круто повернули, быстро прошли часть улицы, а потом перепрыгнули через забор и,
пройдя на другую улицу, опять перелезли забор и попали на железнодорожный двор,
где среди массы вагонов трудно было проследить за нами: Таким образом, наше
собрание прервалось, и мы, перекинувшись наскоро о деле, получили {90} листки и разошлась по своим квартирам. Это было последнее
свидание с интеллигентом, так как, как потом оказалось, за ним следили по пятам,
и указанная тёмная личность пришла специально за ним из города. Когда же
интеллигент спрятался в пустой вагон, шпион сообразил, что должно произойти
свидание на указанном месте, и остался поджидать в надежде выследить кого-нибудь
из рабочих. Это ему не удалось, но зато интеллигента жандармы скоро изъяли из
обращения.
Припоминая этого интеллигента, могу сказать, что человек он был преданный и
слепо верил в скорое осуществление своих взглядов.
Помню, как-то ночью, когда я провожал его домой, мы встретились неожиданно с
Д. Кругом вас — ни души: опасная часть города не часто видела прохожих в такие
поздние часы; поэтому, спокойно расположившись на мостике, мы повели довольно
оживлённый разговор о нашей работе.
Нас накрывала ночная мгла, и только вдали обширное зарево Брянского завода
ясно и внушительно говорило о необходимости работы. Интеллигент, увлёкшись,
заявил, что ещё года три, много четыре нашей работы — агитацией, и весь этот
строй развалится.
Я мысленно ухмылялся наивности увлекающегося интеллигента, этого горячего,
неглубокого человека, социалиста, но готового жертвовать собой без остатка ради
своих идей. Всё же не хотелось разуверять его, он был ценным человеком для
Екатеринослава, он первый начал работать агитационным путём и первый принёс
листки, долженствовавшие показать и сказать массовым рабочим о их тяжёлом житье
и вселить жажду революции в их забитые головы. Кажется, продолжительное тюремное
заключение впоследствии совершенно расшатало умственную систему этого пионера.
Итак, он был арестован, были арестованы и ещё некоторые интеллигенты, но из
рабочих никто арестован не был. Поэтому хотя поражение было чувствительно и для
нас и для дела, но никоим образом эти аресты не могли отразиться более глубоко
на работе в массах, так как вожаки-рабочие были целы. Дела шли довольно хорошо,
и день ото дня круг участников распространения литературы расширялся и
расширялся. Но я несколько забегаю вперёд.
{91}
Как было упомянуто мною, при самом начале распространения листков употреблён
был способ расклеивания таковых по заборам около проходов и углов, однако
полиция вскоре обратила внимание на это, и пришлось этот способ видоизменить.
Помню, как-то раз ночью был порядочный мороз, под ногами хрустел снег, когда я и
мой товарищ вышли из квартиры с карманами, набитыми сложенными в три угла
листками. Мы направились по одной улице, в которой бросили три или четыре
листка, потом, дойдя до последних улиц пошли по двум параллельным улицам,
раскидывая по дороге листки; при этом приходилось довольно часто переходить с
одной стороны улицы на другую. Наконец, при окончании улицы, мы сошлись и пошли
по направлению в Брянскому заводу, стараясь по возможности бросать листки на все
тропинки, ведущие к заводу. Пройдя около забора мы свернули и, перейдя железную
дорогу, пошли, в другую местность, и, потом идя оттуда, опять бросали листки так
как путь шёл к заводам. Пройдя около завода и побросавши тут, поднялись опять на
на железную дорогу, прошли под вагонами стоявшего у семафора поезда, опять на
дороге побросали листки. Когда мы увидели, что карманы наши опустели, то
повернули обратно и, миновав завод, прошли к очень людной тропинке, ведущей на
завод, на которой и посеяли остатки листков. Нас было двое, но мы постарались
раскинуть листки на столько путей, что они поневоле должны были попасть на
каждый завод. Раскинувши таким образом листки и оставшись со совершенно чистыми,
мы спокойно возвращались по домам, сделав в известных местах на заборе по
соответствующему знаку мелом, для того чтобы днём заметили эти знаки свои люди и
повяли бы, что в таком-то месте всё обошлось благополучно, а следовательно,
можно пойти к такому-то на квартиру. Утром, являясь на завод, каждый из нас
слушал рассказы и толки о листках.
Интересно, как люди были склонны преувеличивать происшедшее за ночь. Многие
толковали, что мол-де, очень много «их» работает, если в одну ночь всюду
появились листки, и при этом, конечно, слышались разные толки о могуществе и
силе «этих людей», их смелости и т. п.
Находя на улице листок, рабочий не подвергался никакой опасности и приносил
на завод, где и прочитывали {92} его. Если первое время
трудно было подметить, какое впечатление производит листок и что толкуют
рабочие, так как было малое количество активных участников, то зато потом на это
обращалось особое внимание, и всякому вменялось в обязанность по возможности
прислушиваться к толкам и обо, всём сообщать в комитет. Кроме того, каждый
активный должен был, по возможности, знакомиться и ходить в гости к рабочим,
ничего общего с революцией пока не имеющим, для того чтобы собирать как можно
больше точных сведений о заводе.
После трёх или четырёх листков, распространённых на Каменском заводе (в 30
верстах от Екатеринослава), рабочие, распространявшие этого рода литературу,
навлекли на себя подозрение. И вот как-то в воскресенье приезжает ко мне сначала
один из распространителей, потом ещё один и сообщают о своём намерения бежать в
Австрию, где гораздо лучше и свободнее, нежели в России.
Я очень жалел, что люди уезжают в то время, когда как раз начинается работа и
всякая сознательная единица очень важна и дорога, когда ничего твёрдого ещё не
поставлено, а тут люди как будто бы ради только: своего «я» стараются улепетнуть
— это было очень досадно.
С другой стороны, я опасался, что их могут действительно арестовать, а это
значит — дать лишний козырь в руки жандармов. В то же время приятно было
избавиться от жандармов, отправив этих людей из Екатеринослава и, таким образом,
обойти чудовищного врага, открывшего пасть на свою жертву. Я убедительно просил
моих каменских товарищей сообщить мне о благополучном миновании русской границы.
Они обещали мне это, и я действительно вскоре узнал о благополучном прибытии их
в один австрийский город, где они вскоре же получили работу. Эти товарищи,
уезжая, оставили нам связи, и после их отъезда появление листков продолжалось
так же правильно, как и раньше. Это были первые товарищи по революционной
деятельности в Екатеринославе, с которыми мне пришлось расстаться. Вскоре после
этого случая пришлось расстаться еще с одним другом, с которым мы распространяли
по ночам листки и который сидел иногда в яме колодца. Так складывались
обстоятельства, что лишь только где начинается движение, как вскоре же
приходится терять товарищей, с которыми пришлось поработать и сойтись по душам.
{93}
После этого вскоре мы потеряли несколько интеллигентов, которые до сих пор
являлись нашими вдохновителями: Но к чести интеллигенции нужно сказать, что всё
время она ничего почти самостоятельно не предпринимала раньше, чем не
посоветуется с нами, и потому-то новое у нас так удачно шло и развивалось; за
всё время между нами не произошло почти ни одного разногласия, это очень важно
везде и всюду при начинании такого дела, и это необходимо заметить. И вот
приходится терять такую интеллигенцию, которая до сих пор выполняла самую важную
работу.
Нужно ли говорить, что это тяжело отразилось на нас, но это ещё тяжелее
отразилось на деле агитации: некому было выполнить даже технической стороны
этого дела, особенно это почувствовалось в недостатке листков, так как
составление и редакцию таковых мы, конечно, не смогли выполнить сами. Как
несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго
обдумывать особых приспособлений для отрытия их, а заставляет скорее схватить
лопату и рыть, рыть без устали, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть
живых или мертвых тел, так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и
нужно было по возможности скорее принимать наследство.
Товарищу Д. пришлось устраиваться со складом литературы, хотя таковой было не
так много, но тем более она была ценной для нас, тем более мы должны были её
хранить насколько возможно тщательнее и осторожнее. Д. нанимает квартиру за два
рубля и привозит на эту квартиру литературу в корзине, ставит под кушетку (род
деревянной кровати), а сам на другой день уходит, говоря, что ему нужно
отправиться по своей службе в отъезд, на самом деле он уходит на ту квартиру,
где постоянно живёт и откуда не думает уезжать, а на квартиру с литературой он
стал ходить один или два раза в неделю переночевать, дабы не заподозрили
чего-либо, или же специально за литературой.
В то же время приходилось искать себе помощников, так как работать вдвоём
было очень трудно, да и жутко было брать на себя столь сильную ответственность в
руководстве и наставлении больших тысячных масс. Насколько помнится, листки у
нас выходили в то время, но {94} уже активность со стороны
интеллигенции была в это время очень незначительна.
Не говоря о том, что листки приходилось полностью редактировать мне и Д, но
очень часто Д. приходилось писать оригиналы для гектографа и печатать листки. Мы
же должны были руководить и распространением этих листков, но это было легче,
так как у нас была очень сильная и серьёзная поддержка среди рабочих, достаточно
было передать листки, а там распространят и помимо нас.
Наша работа пошла энергично вперед и начала пускать свои корни всё шире и
глубже.
Нам удалось привлечь к нашей работе двух совершенно новых лиц и образовать;
таким образом, довольно тесную группу людей, задавшихся целью руководить всем
движением города Екатеринослава, издавать листки по самым различным поводам,
отвечая на все вопросы, возникающие на заводах. И наше слово претворилось в
дело. Мы готовили листки в большом количестве, и они массами оказывались у
рабочих и на центральных улицах Екатеринослава.
Помню, что у нас происходило одно собрание по поводу какого-то вопроса. Как и
всякое собрание того времени, оно происходило на воле, где-то за городом. Помню,
мы все собрались и ждали запоздавшего товарища. Говорили о разного рода
вопросах, сообщали кое-какие слухи и начали беседовать по поводу сегодняшнего
собрания, а товарища всё нет и нет. Нам надоело ждать, но всё же, не зная
причины отсутствия, мы теряли всякое терпение и почти решили разойтись. В это
время товарищ появился, мы встретили его далеко не ласково и начали сурово
допрашивать о причине его запоздания, он же отвечал как-то отрывисто и вообще
чувствовал себя очень возбуждённо. Наконец, он пообещал сообщить нам кое-что
особенное, что сильно нас порадует и порадует всю русскую землю и всех русских
рабочих. Он, видимо, составил план, как бы подействовать сильнее на нас. Мы
молча слушали его и ожидали, когда он скажет суть самого главного, и что,
наконец, это самое главное? Наконец, он торжественно объявил, что все «Союзы
борьбы за освобождение рабочего класса» слились в единую партию, и названа она
«Российской социал-демократической рабочей партией». Он вынул выпущенный по
этому поводу манифест от {95} партии7, который
мы сейчас же прочли стоя, в честь партии. Тут же, на собрании, мы объявили себя
«Екатеринославским комитетом Российской социал-демократической рабочей
партии»...
Как-то вечером, сидя у себя на квартире с Г., я неожиданно был приятно
удивлён. В комнату в сопровождении одного петербургского товарища вошёл П. А.
Морозов, вернувшийся из ссылки в Вологодской губернии. Конечно, как старые
друзья, мы скоро сошлись с ним почти во всех вопросах. Принимая во внимание, что
П. А. был человек очень развитой и бывалый, видавший много разных людей, разные
способы работы, а следовательно, могущий во многом нам помочь, я решил, что его
следует ввести к нам в Комитет. Такое своё желание я передал другим и получил
согласие всех. Оно и понятно, так как нам тогда были страшно нужны люди, бывшие
уже в работе, имевшие богатый опыт деятельности и могущие несколько помочь нам в
редакторстве разных листков. Всем этим требованиям П. А. Морозов отвечал как
нельзя лучше и, значит, являлся самым желательным человеком. Он был принят
членом в Екатеринославский комитет.
Перед тем, как встретиться с П. А. Морозовым и до того, как Екатеринославская
группа «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» переименовалась в
«Екатеринославский комитет», у меня велись усиленные переговоры за Днепром в
местечке Нижнеднепровске с моим старичком, который уже переехал в те края. Часто
я отправлялся туда, вечером или в воскресенье, и мы устраивали у него собрания
вдвоём или втроём. Наши собрания не носили революционного характера, тем не
менее они были конспиративными и происходили очень тайно, так что никто из
обитателей квартиры не смел входить в комнату, в которой мы заседали. Конечно, я
руководствовался или мною руководила мысль чисто революционная...
Мой старичок давно носился с мыслью основать кооперативную лавочку. Он был
уверен, что дело быстро пойдёт втору, и таким способом удается собрать
порядочную сумму, которая нам дает возможность двинуть сильнее дело революций
вперёд. Я уже был знаком в то время с деятельностью кооперации, особенно с
Брюссельским народным кооперативом, и это, конечно, позволяло мне {96} надеяться, что возможно поставить дело удачно, и тогда можно
будет извлекать из кооперации средства на революционную работу. Не могу сказать,
чтобы я не увлекался этим делом.
План старичка был — открыть мелочную лавочку около завода, и, следовательно,
покупателей у нас будет достаточно, особенно, если постараемся тем или иным
способом сделать её популярной; затем он уверял, что с торговым делом он знаком
и потому ручается, что никакого ущерба мы из-за лавочки нести не будем, а в
крайнем случае, если произойдёт какая-либо неудача, то не бог знает, какие мы
потеряем деньги на этой лавке. Мы решили вычислить как можно точнее, сколько
процентов риска и сколько процентов, подтверждающих наши планы. У нас было
несколько собраний чисто интимного характера, и когда вопрос об устройстве
данной лавочки был уже решён, то и тогда; никто об этом не узнал. Как-то на
одном из таких собраний мы решили данный вопрос окончательно. Оставалось только
собрать часть денег на первое обзаведение; хотя лавочка предполагалась
небольшая, всё же цель её создания — добывать средства, а если не будет денег на
покупку необходимых товаров, то план наш положительно рушится. Я оказал давление
на своих товарищей, чтобы дали по пять рублей на создание одного учреждения, это
с моими собственными деньгами дало мне всего пятьдесят рублей. Пришлось просить
одного из наших, имевшего около двухсот рублей, чтобы он ссудил нас, хотя бы под
вексель. Человек он был не особенно преданный, но под вексель старичку дал 100
или 150 рублей — точно не помню.
Старичок и ещё двое кроме меня принадлежали к какой-то организации.
Повидимому, эта организация возникла на почве экономической борьбы, и когда
некоторые члены её были арестованы, то привлекались как уголовные. Вина их была
в том, что они побили кого-то из администрации. Для ведения их дела и для помощи
им была собрана сумма, по тогдашним временам довольно порядочная. Остаток от
этой суммы составлял 30 рублей, каковые пока расходовать было не на что
(арестованные были высланы на родину), а потому решили пустить их в оборот с
условием, чтобы можно было получить одну треть при первой же потребности на
помощь арестованным за распространение листков или за участие в кружке. Эти
{97} деньги решили, как я сказал, пустить в оборот лавки.
Всего денег собралось около 200 рублей, но потом ещё прибавилось около полсотни,
и с этими-то деньгами мы решили пуститься в плаванье по коммерческому морю.
Юридическим хозяином был избран старичок, он должен был ведать не только
лавкой, но положительно всеми делами; этой лавки. При получении денег он должен
был выдавать векселя как гарантию от какой-либо случайности. Таким образом, в
самом начале была установлена юридическая обеспеченность собранной суммы. Затем
старичок обязывался давать периодически правильные отчёты контролёру как за
книгами по торговле, так и за количеством наличности товара. Контролёром в этом
роде был избран я, а следовательно, на меня ложилась порядочная доля
ответственности в этом предприятии. Было решено периодически устраивать наши
общие собрания, где бы мы знакомились с делом и, смотря по обстоятельствам,
предпринимали то или иное решение. Решили также, что лавочку открываем пока на
три месяца, по истечении которых наше общее собрание должно решить, быть или не
быть лавке. И, наконец, что каждый обязуется приискивать покупателей, но
стараться в долг никому, не давать.
После этого собрания, получивши деньги и общее согласие, наш доверенный
приступил к поискам подходящего помещения, какового долго подыскать не удавалось
— это было начало наших разочарований; главная причина состояла в недостатке
материальных средств. Помещения находились, но с условием на год за сумму 250 и
300 рублей. Взяв во внимание, что при таком помещении можно жить с семейством,
занимая порядочный дом, это было довольно выгодно и очень удобно, так как можно
было, расширять постепенно торговлю. Однако при всём нашем желании это для нас
было положительно невозможно из-за недостатка наличности средств, и на это
приходилось смотреть, как на приятное будущее. Спустя месяц было нанято
помещение в базарной местности за 18 рублей в месяц, но условие заключено на
полгода, и плата — за три месяца вперёд. Пришлось согласиться на эти условия при
невозможности подыскать более выгодные условия, и тут же пришлось израсходовать
почти одну четвёртую всего нашего капитала; дальше приходилось выправить
торговые свидетельства, а за ними шли всевозможные {98}
мелкие расходы, очень быстро уменьшавшие наши средства. Когда всё это устроили,
то пришлось закупать товар на наличные деньги, каковых у нас была ничтожная
сумма, и они-то должны были приносить нам доходы. Тут же сразу разрушались
всякие надежды на особую помощь от лавочки, но затраченные деньги требовали
наших усилий, надо было как-нибудь их потом вернуть.
Помню, как-то в воскресенье отправился я поздравить нашего фиктивного хозяина
с открытием лавки и подробно осмотреть её внутренний вид. Помещение было
достаточное, место очень бойкое, покупателей много, хозяева, как будто очень
солидные, беда только, что почти нечем было торговать: за каких-либо полчаса в
моём присутствии отказали четырём или пяти покупателям по тем соображениям, что
пока, мол, ещё не купили этих товаров. И верно, расставленные по полкам ящики
были совершенно пусты, кое-где торчавший товар был в самом ничтожном количестве,
одна стена была совершенно пустая и в ней не было вбито ни одного гвоздя.
Несколько бумажных мешков заключали в себе по два — по три фунта разных круп,
четыре-пять стеклянных банок, на выручке содержали сласти, конечно, не в большом
количестве; тут же висело два фунта колбасы и только за дверями на крыльце лавки
был целый боченок сельдей да порядочная связка тарани, там же лежал хлеб и ещё
кое-что для деревенского покупателя. Моё впечатление было довольно тяжёлое, и
только сообщение о сумме, на которую торговали первые дни, позволило надеяться
на благоприятное будущее. Узнав, на сколько куплено всего товара и сколько
находится денег, в чём больше чувствуется недостаток и что купят на первую
выручку, я собрался уехать в город, забрав, конечно, всего, что можно купить в
нашей лавочке для своих потребностей, но и тут меня просили кое-чего не брать, а
оставить для какого-либо местного покупателя. Таково было наше кооперативное
начало, и хотя начало было самое неудовлетворительное, всё же я был того мнения,
что такая лавочка возможна в каждом городе. Только одно было плохо: что у нас
нет возможности объявить такую лавочку кооперативной, и данная наша лавочка
окружена со всех сторон конспирацией, что, само собой, не могло ей служить на
пользу; притом открывать такую лавочку с {99}такими
средствами никогда не следует, если только не частным образом. Нужно сказать,
что хотя и ничтожная лавочка, а она требует присутствия в себе человека не
меньше, чем в продолжение 14—15 часов, и, поставив человека, мы обязаны были
ассигновать ему известное вознаграждение; при нашей бедности всё же мы назначили
десять рублей. Следовательно, минимальный расход доходил у нас до 30 рублей в
месяц: помещение — 18 руб., услуга— 10 рублей, сторожу — от 60 копеек до 1
рубля, затем освещение и непредвиденные расходы, а товару всего на 60—70 рублей.
Хотя я жил в восьми верстах от лавочки и никуда по её потребностям не ходил,
всё же она отняла у меня довольно много времени, когда оно страшно дорого было
для революционной работы. Приходилось ценить жертвы с этой стороны, тогда как
ранее я никогда не обращая внимания на время. Наконец, товарищ Д. стал
прямо указывать мне, что я слишком много времени расходую для лавки, когда оно
так дорого. Жалея время, я всё же должен был являться туда хоть раз в неделю и
выслушивать всё растущее и растущее сетование на холодное отношение к этому
учреждению даже самих учредителей и что, мол, человеку в преклонных летах очень
тяжело вести это дело. В словах такого рода я отлично видел упрёк себе и поэтому
говорил прямо о невозможности отдавать больше свободного времени для нашей лавки
в ущерб революционной работе, а если и другие не помогают, то поправить дело
очень трудно, и уходил, не сделав даже особой проверки, чувствуя в этом сильное
оскорбление для человека, руководившего этим делом; я же просто верил в его
честность.
Революционная деятельность шла своим порядком довольно правильно. У нас также
систематически происходили собрания, выпускалась изредка листки, прибавилась и
другая литература.
Приходится вернуться опять несколько назад.
После провала мы, как я говорил, взяли к себе и склад литературы, но способ,
которым мы хранили, был довольно рискованный и очень неудобный; поэтому мы с Д.
начали придумывать новый план хранения и в конце концов решили передать корзину
Г., который бы хранил у себя. Об этом я с Г. говорил уже раньше, и мы решили
вырыть под домом большую яму, куда можно было бы {100}
опустить эту корзину. Конечно, никто об этом не должен был знать. Решили
действовать. Я стоял у ворот проходного дома, поджидая извозчика с корзиной и
Д., при этом, конечно, пришлось испытать своеобразное чувство тревоги. Но вот.
показался на углу извозчик с Д. и корзиной, ехавшие довольно тихо. Извозчик
остановился, Д. начал расплачиваться, а я, взваливши на плечи корзину,
отправился через проходной двор на другую улицу, а потом и на третью, где у дома
уже поджидал меня Г., который взял корзину, и мы вместе вошли в квартиру,
заперлись в комнате и принялись знакомиться с содержимым корзины. Хотя склад был
довольно бедным, но я всё-таки нашёл много интересного для себя, а Г., вообще
читавший мало литературы, был сильно удивлён разнообразием и, конечно, тоже
пожелал прочесть, чего не читал.
Приведя в порядок книги и сделавши список всего имевшегося, мы поставили
корзину к стене. Г. несколько раз но вечерам и ночью слазил под дом и попробовал
вырыть яму, но мы пришли к заключению, что это очень неудобно, да и не так
безопасно, тогда как явилась возможность отправить эту корзину в совершенно
безопасное место, куда она вскоре и была переправлена в качестве корзины,
набитой запасной одеждой. Всё это удалось нам очень хорошо, и мы убедились, что
слежки за этими местами нет.
Помню, как-то Г. явился ко мне в женском платье. Я даже не сразу понял, кто
собственно ко мне явился — такая осторожность, конечно, не была излишней, если
много функций самого важного характера падает на поднадзорных людей. Приходилось
иногда осторожно выходить из ворот поздно вечером, а иногда и ночью, дабы
получше осмотреть, нет ли кого около дома, иногда же приходилось ходить и
наблюдать за домом, где живёт товарищ, дабы случайно открыть слежку, если
таковая существует.
В конце лета выбыли у нас из комитета два человека: один, собственно, по
трусости, а другой бежал в Лондон, и поэтому пришлось дополнять комитет новыми
людьми. Наш комитет, состоявший из одних рабочих, проработал с полгода, и, пока
провала не последовало, собрания происходили большей частью в открытом месте за
городом где мы ни разу не были замечены. При такой конспирации {101} мы привлекали в комитет только очень осторожных и
выдержанных людей. Как раз в это время я познакомился с человеком, бывшим также
под надзором и работавшим раньше в одном из больших городов. Он давно разыскивал
людей, близко стоявших у дела, и желал сам принять участие в работе. Пока
получили сведения о его надёжности, мы, хотя и продолжали вести с ним
знакомство, но в организацию не вводили, а потом ввели и в комитет; затем в
комитет был введён и Г., так что мы пополнили свой ущерб людьми, безусловно
преданными делу, и комитет продолжал правильно выполнять работу. Как-то в то
время приезжал к нам представитель от одного большого города и привёз нам своего
знакомого, который должен был войти в наш комитет. Новый товарищ был
интеллигент, но, хотя он был и с высшим образованием, всё же, увидавши нашу
самостоятельную работу, к которой мы привыкли и в которой хорошо
ориентировались, он почувствовал себя очень неловко и признал слабость своих
сведений по рабочему вопросу. Поэтому мы дали ему кружок молодых людей, но всё
же просили его принимать участие в комитете, где он и бывал несколько раз. Это
был первый человек из интеллигентов того времени, который занимался в кружке.
Таким образом, настала зима 1898 года. Агитация принимала правильный,
регулярный характер, тогда как кружки почти не собирались и не было
интеллигентов, которые могли бы заниматься в кружках. Заниматься же
систематически самим комитетским рабочим не было никакой возможности за
неимением свободного времени, и притом с этого, времени было постановлено, чтобы
комитет собирался обязательно один раз в неделю. Это постановление было одно из
самых наиполезнейших для всей деятельности. Хотя раз собраться в неделю — это
было работой, потому что каждый на собрании давал объяснения по поводу
мастерской или завода, в котором он работал, и всякий особый случай
подчёркивался и иногда постановляли осветить его листком. Если произойдёт стачка
в маленьких размерах или какое столкновение, комитет должен был обо всём знать
и, делая постановления, приводил их в исполнение. Комитет, понимая, трудность
своего положения, был благодарен тем интеллигентным единицам, которые в то время
иногда появлялись; но помощь их была слабая, так что мы являлись людьми,
работающими без {102} всякой интеллигенции. В этом же году
был арестован мой товарищ Д. Это было большой потерей для комитета, потому что
он был самый старый из всех нас и, следовательно, лучше всех знал организацию.
Он вёл сношения с интеллигенцией или, как мы выражалась, с городом, так как в
городе постоянно существовали один или два лица, при помощи которых мы получали
всякого рода литературу. С арестом Д. мы на время потеряли связь с городской
группой, доставлявшей нам, кроме литературы, также и деньги и людей для ведения
кружков.
Оказавшись же без всего этого, мы, екатеринославцы-рабочие, старались по
возможности больше употреблять усилий, дабы не было заметно нашей слабости.
Между тем во время моего пребывания в Екатеринославе наставали не раз моменты
полнейшего обезлюдения в интеллигентных личностях. После ареста Д. (он был
арестован не по екатеринославскому делу) мне пришлось часто сноситься с городом,
и эта лишняя работа отнимала у меня много времени.
Так как я выполнял эту работу недостаточно хорошо, то было предложено принять
одного человека из города, как представителя от интеллигенции. Такой человек
скоро нашёлся, так как в это время уже начали приезжать новые люди из бывших
ссыльных, которые желали войти в организацию. Оказалось даже, что группа таких
интеллигентов образовала а городе свой комитет. Наш комитет первое время ничего
не знал об этой новой организации интеллигенции, которая, естественно, хотела
принять на себя руководство работой. Вышло довольно странно, что в то время, как
правильно функционировал старый (назову его рабочим) комитет, который собирался
еженедельно, обсуждал разные вопросы, издавал листки, тут же рядом с ним вырос
новый комитет, который, конечно, не мог удовлетвориться работой по выполнению
разных постановлений рабочего комитета, как-то: доставкой литературы, средств и
печатанием готовых листков.
Как я уже говорил, интеллигентам желательно было взять в свои руки писанье
листков, редактирование таковых и руководство движением вообще. На этой почве
происходили разные инциденты в рабочем комитете, вызываемые главным образом
представителем от города, т. е. от интеллигентского комитета. Инциденты первое
время являлись случайными и скоро улаживались, но постепенно {103} они стали принимать неприятный оборот. Росло общее
недовольство и увеличивались раздоры, от чего существенно страдало дело.
Помню, что интеллигенты часто нападали на нелитературный язык издаваемых
листков и, кажется, один из листков был несколько изменён и сокращён в городском
комитете. Это вызвало прямое столкновение...
Прошло порядочно времени, а раздоры не уменьшались. На каждом собрании
комитетом предлагались разные меры, клонившие комитеты к соглашению друг с
другом. Предлагалось созвать оба комитета и на общем собрании выбрать лиц по
одинаковому количеству от обоих комитетов, которые бы, слившись, и представляли
единый комитет. На это городской комитет не соглашался над предлогом того, что
общее собрание будет слишком большое и можно навлечь подозрение, избрать же по
равному количеству лиц для слившегося комитета (предполагаемого) тоже почему-то
не пожелали, а выход из натянутого положения был необходим для обеих сторон.
Наконец, соглашение состоялось на следующем компромиссе: 1) собрания рабочего
комитета происходят в старом порядке, и на собраниях присутствует один
представитель от интеллигенции с правом голоса, но этот представитель не может
меняться и не может приводить другого члена городского комитета без особого
каждый раз согласия от рабочего комитета; 2) точно так же городской комитет
обязан сообщать о своих собраниях члену рабочего комитета, избранному для
присутствия на их собраниях, и уже представитель от рабочих передаёт в рабочий
комитет о вопросах, обсуждавшихся в городском комитете и о принятых решениях; 3)
писать для рабочих какого-либо завода или вообще для Екатеринослава могут
одинаково оба комитета, но окончательная редакция данного листка и признание
своевременности и необходимости такового принадлежит рабочему комитету. На этом
произошло соглашение, и впоследствии эти вопросы почти не вызывала никаких
столкновений, и рабочий комитет очень часто принимал листки, писанные городским
комитетом, безо всякого изменения.
Зимой 1898 и 1899 года Екатеринослав кипел во всех частях и районах
революционной пропагандой и агитацией. На всех заводах были свои люде, которые
собирали сведения, следили за настроением и указывали на всякого {104} рода злоупотребления. Особенно рабочие были недовольны
черкесами, которые служили в качестве сторожей на некоторых заводах. Черкесы —
это тёмный и грубый народ; вооружённый холодным оружием, а иногда и
огнестрельным и дико готовый защищать всякого мастера, начальника, а директора и
помощника — тем более; они при первой возможности выхватывали оружие и готовы
были броситься на рабочих. Точно такими же дикими исполнителями приказаний
являлись они во время работы; если кто-либо повздорил с мастером, последний по
телефону вызывает из проходной казака и, грубо издеваясь над рабочим,
приказывает черкесу вывести бунтовщика или «пьяницу» за ворота, что тотчас же и
приводится в исполнение. Благодаря этому и дикому нраву черкесов, рабочие их
просто ненавидели, и на этой почве происходили постоянно недоразумения,
требовавшие вмешательства полиции и уездного начальства.
Борьба на этой почве сильнее всего происходила за Днепром и главным образом
на заводе Франко-Русского товарищества вагонных мастерских. С самого начала
функционирования этого завода он являлся самым беспокойным и революционным: там
часто происходили забастовки вследствие недовольства администрацией. Черкесы же
были бельмом на глазу у всякого рабочего.
Ещё в 1897 году весной, идя к этому заводу от станции Нижнеднепровск с
партией человек в 12, я был свидетелем довольно неожиданной встречи. Мы
приближались к заводу, когда оттуда вышел черкес, оказавшийся старшим сторожем.
Он, очевидно, направлялся к станции, а оттуда в город. Заметив его, наша группа
оживлённо заговорила о желании побить этого черкеса. Я, конечно, прислушивался к
разговору, но не допускал возможности, чтобы рабочие вздумали бить его на самом
деле. Когда наша группа стала приближаться к черкесу, то все разошлись по
сторонам рельс железной дороги, но один, упрекая остальных в трусости, шёл между
рельс прямо на черкеса и лишь только поровнялся, как ударил последнего по уху.
Черкес схватился за оружие, но в это время в него полетели со всех сторон песок
и камни. Он бросился к забору и, как дикая кошка, моментально скрылся. Как
только мы подошли к заводским воротам, у которых стояло уже человек двадцать
народу, из завода вышел урядник в сопровождении побитого черкеса, и они оба {105} стали выискивать в толпе виновника. Черкес сейчас же узнал,
обидчика, но тот отказался, заявив, что он не ударял, и отказался пойти с
урядником; как свидетели пошли двое, которые сказали какую-то выдуманную
фамилию, на этом дело и кончилось, но черкес всё время твердил, что он будет
помнить и, если не он, то его дети отомстят за него. Нужно ли говорить, что тому
рабочему нечего было и думать поступить на этот завод.
Точно так же, кажется, в 1898 году я подходил 1 мая или накануне к этому
заводу повидать своего товарища. Вдруг вижу, что в заводском дворе происходит
что-то необыкновенное. У ворот завода я узнал, что часа два тому назад побили
помощника директора. Тогда уже у ворот стоял не черкес, а сторож в полицейской
форме. После происшедшей истории он был так перепуган, что когда я проходил в
завод, то он и не подумал меня остановить. Подойдя в заводском дворе к главной
конторе, я увидел группу рабочих человек в 100 и перед ними исправника,
говорившего что-то начальническим тоном. Я заинтересовался и протиснулся в
середину рабочих. Исправник долго говорил перед рабочими и советовал им начинать
работать. Один из рабочих очень возбуждённо и резко отвечал исправнику, и
рабочие его поддерживали. Исправник, ничего не добившись, ушёл в контору.
Оказалось, что рабочие, собравшись со всех мастерских во время работы, попросили
к себе помощника директора, который вышел к ним и начал говорить сначала
довольно резко, но, увидавши себя окружённым злыми лицами рабочих, стал говорить
в ином духе и, очевидно, думал вывернуться при помощи стоявшего рядом с ним
урядника. Его манёвр не удался, так как в это время кто-то накинул на его голову
мешок, и тут же один из рабочих ударил его чем-то тяжёлым, от чего он присел.
Поднялась суматоха, и рабочие, давши гудок, ушли из завода, помощника же внесли
с окровавленной головой в контору, у которой я и застал собравшихся рабочих.
После этого рабочие два дня не работали и чрезвычайно волновались; ходили
разговоры о том, что нужно добиться освобождения арестованных. Но начальство
припрятало на случай волнений в сарае солдат, о чём рабочие узнали. После этого
в субботу сократили работу до двух часов. Это было удовлетворением требования
которое они выставили до того, как был побит помощник директора.
{106}
Черкесы за Днепром вывелись, и их не видно было ни на одном заводе, но в
самом Екатеринославе, на Брянском заводе, черкесы продолжали вызывать своим
присутствием ненависть в рабочих.
Как-то поздно вечером, идя с работы из смежного трубопрокатного завода,
рабочие взяли доску из забора Брянского завода; стороживший черкес погнался за
рабочими и, догнавши, пытался отнять доску. Завязалась драка, и к месту
происходившей истории сбежались со всех сторон рабочие. Конечно, тут досталось
бы черкесу, но на подмогу последнему из завода выскочили другие черкесы, и один
из черкесов ударом кинжала убил одного рабочего. После этого рабочие страшно
остервенели, ворвались в Брянский завод, разрушили и подожгли сторожевые будки
для черкесов, уничтожили их имущество, а другая часть рабочих, более
многочисленная, набросилась на главную контору, произвела там ряд разрушений и
старалась вскрыть кассу. Был принесён большой молот (кувалда), которым, наконец,
удалось взломать, кажется, малую кассу, часть денег тут же была взята и брошена
в толпу работах. В это время контора объялась пламенем от произведенных с разных
сторон поджогов и сгорела дотла.
Почти одновременно с этим в посёлке Кайдаках (где черкесом был убит рабочий)
разгромили казённую винную лавку, выпили всю находившуюся там водку и, очевидно,
взломали выручку, не встретив препятствия ни с чьей стороны. Часть подгулявшей
взволнованной массы рабочих, поджигавших контору, направилась к общественной
лавке, которую одинаково разгромило, как и винную, и начала уничтожать товары.
Отделившаяся часть человек около тридцати, направилась на Чечелёвку, к главной
общественной лавке, где, встреченная револьверными выстрелами, отступила, ударив
несколько раз по железным ставням лавки. В это время подошли пешие войска,
вызванные из лагерей. Они оцепили разгромленную общественную лавку, которая этим
была спасена от поджогов, хотя из опасения повредить рядом живущим рабочим её всё
равно не подожгли бы.
Когда рабочие разгромляли главную контору, то часть рабочих желала войти в
ворота и, очевидно, намеревалась произвести разгром и в самом заводе, но этому
помешали рабочие ночной смены: они высыпали все к воротам и,{107} опасаясь, чтобы их не побили, вооружились кусками железа.
Приехавший в это время полицеймейстер кричал на околоточного, почему тот не
усмиряет рабочих; когда тот ответил, что очень опасно, тогда, желая доказать
трусость околоточного и свою храбрость, полицеймейстер протискался в середину
рабочих и что-то начал кричать, но в ответ сейчас же получил удар камнем в
голову, от которого свалился, и его пришлось увезти домой. Часам к четырём утра
беспорядки почти совсем прекратились. Сейчас же после беспорядков мы выпустили к
рабочим Брянского завода листки с объяснением бесплодности таких жертв и призыв
к правильно организованной стачке. Черкесы были вскоре удалены, и завод начал
строить каменную контору.
Характерно, что во время процесса на суде инженеры, да почти и вся заводская
администрация старались взвалить всю вину на деятельность революционеров и на
листки, которые вызывали у рабочих желание бунтовать. Но один инженер держал
себя на суде хорошо и показал много интимных сторон заводской деятельности (хотя
как начальник он, конечно, был прохвост из первых). Этот инженер говорил, что в
листках всегда пишут о понижениях расценок, о нежелательном отношении заведующих
лиц к рабочим и разных других злоупотреблениях, что, естественно, находило
всегда отклик в сердцах рабочих.
В то время стачки стали явлением очень обыденным, но они не были большими по
размерам и кончались большей частью без вмешательства лиц фабричного и горного
надзора или немедленным удовлетворением требований рабочих, или же взаимными
уступками с той и другой стороны.
Помню, что во время процесса над бунтовщиками Брянского завода рабочими
нарасхват раскупалась газета «Приднепровский край», но она не могла
удовлетворить рабочих ничтожными сведениями, что вызывало довольно частые толки
о листках, в которых должно быть все подробно сообщено.
«Что там читать газету, вот подождите, наверно скоро выйдет свой листок, там
уж их отделают как следует, и там всё узнаем. Долго только что-то нет, уж не
случилось ли чего с ними?..»
{108}
Такие толки показывали, что рабочие относились к листкам с безусловным
доверием, и приятно после этого, что листки производили постоянно хорошее
действие.
Одно плохо обстояло — это кружковая работа. Мы постоянно требовали занятий в
кружках, но нам из города отвечали, что нет людей для этой работы. Помню, как-то
в городе на собрании я поставил ребром этот вопрос и тут же убедился, что ни
один из присутствующих в кружок не пойдёт: частью по причинам психологического
характера, частью потому, что — женщины, а главное, потому, что большинство не
обладало даром слова. Чем там будут заниматься? — Ведь у нас нет литературы,—
говорили они? Вот подготовим литературу и тогда начнём. Оказывается, они начали
писать брошюры. Конечно писание брошюр не согласуется с деятельностью комитета,
когда там есть другие неразрешённые вопросы и потребности. Всё же, видя
невозможность найти сразу человека, желавшего пойти в кружок, приходилось
ограничиться заявлением о необходимости найти таких людей поскорее. Вскоре после
этого мне предложили одного молодого человека, желавшего заниматься с рабочими.
При свидании мы назначили воскресенье, когда я должен свести этого господина с
рабочими, с которыми ему придётся заниматься. Я взял с собой одного
товарища-рабочего, который должен был свести прямо на квартиру к ожидавшим
товарищам человека, желавшего с ними заниматься. Оставив товарища несколько в
стороне, я подошёл к интеллигенту, и он тут же попросил меня объяснить ему его
положение в кружке. Оказалось, что он не желал положительно никакого над собой
контроля и говорил всё время демагогические слова. Он соглашался заниматься в
кружке только на полных автономных началах, я же предложил свои условия, на
которые он не согласился, и мы расстались навсегда. Пришлось опять разочаровать
собравшихся рабочих, тем более, что я лично не мог пойти туда и поговорить с
ними в это воскресенье.
В это же лето (1898 года), часто бывая в Нижнеднепровске по делу нашей
кооперативной лавки, я присматривался к тамошнему движению, которое проявлялось
в виде частых вспышек и столкновений, наподобие вышеуказанного случая с
помощником директора на Брянском заводе. При помощи моего старичка я
познакомился с двумя личностями, которые и стали в дальнейшем вожаками {109} движения в Нижнеднепровске. Первоначально я. просил их
собирать .разный материал о жизни рабочих, но так как они сами не особенно
любили писать, то мне приходилось записывать всё происходившее на месте. Тут же
я убедился в неудовлетворительности того развития, которым наделяли раньше (1895
и 1896 годы) рабочих. Такие рабочие представляли из себя пуганую ворону и в
них не было ни выдержанности, ни уменья, ни смелости, и потому, стараясь
развивать кого-либо из своих же товарищей-рабочих, они им ничего не могли
передать практичного. Всё же они вкладывали в рабочие массы хотя свой чуть
жив-дух, и вот с этим-то чуть жив-духом мне и пришлось познакомиться.
После того, как пришлось забросить окончательно лавку, я продолжал там
бывать, и: даже чаще, чем раньше, и мне удалось заставить работать этих людей
над приисканием товарищей и распространять брошюры... Приблизительно осенью они
собрали довольно много народу, потребовали устав для кассы, и появилась
необходимость в более правильном руководстве движением. Был выработан «устав
кассы» в резко революционном духе, и в одно: воскресенье сделали общее
собрание... Когда я явился туда, то в большой светлой комнате — «зале» было
много рабочих, для меня уже частью знакомых. Пришлось подождать остальных. Время
проходило в кое-каких разговорах, но большинство молчало, устремив на меня свой
взгляд. Конечно, им было сообщено довольно много обо мне помимо всякого моего
желания. Постепенно публика собралась вся, за исключением двоих.
— Ну что же, господа, я думаю можно считать собрание открытым? — сказал я.
Все согласились, так как самые влиятельные были налицо, и всех собравшихся
было, кажется, 18 человек. Раньше чем предложить устав, я, конечно, говорил о
рабочем движении, о необходимости организации и т. п. Потом прочёл предлагаемый
устав и спросил, подходит ли он, и могут ли они его принять. При этом пришлось
говорить о необходимости распространения нелегальной литературы и, вообще,
противоправительственной деятельности. Все высказались за: принятие устава.
После этого приступлено было к чтению по пунктам и спрашивалось, ясен ли
таковой, не следует ли дополоть или разъяснить его. После общего опроса, каждый
пункт считался {110} принятым. Я особенно волновался за
пункт, в котором говорилось, что всякий член обязуется распространять легальную
и нелегальную литературу, если это будет необходимо. Оказалось, что этот пункт
прошёл без возражений, а дальше, конечно, всё пошло своим порядком. Наконец,
прочитан и принят весь устав. Организация была названа «Началом», после этого
приступили к выбору должностных лиц, главным образом кассира. На меня, как
приезжающего, не могли возложить какой-либо сложной ответственности, всё же
обязанности контролирования были мной приняты. Сейчас же после всех этих
процедур небольшая часть постепенно стала выходить из .квартиры, а большая часть
решила поздравить себя с организацией кое-чем посущественнее. От участия в этом
я уклонился, но уничтожить эти приёмы угощения не мог.
Помню, как-то я приехал поговорить с ними по поводу рабочего движения. Мы
собрались на одной мазанке человек 7, и я произнёс речь, как умел: говорил
довольно долго, часа два, не меньше. Меня все внимательно слушали, восторгались
моими знаниями и, видимо, проникались слышанным, но когда я кончил говорить и мы
решили обсудить кое-какие вопросы, то они (слушали) не выдержали и попросили
извинения, заявив, что желают выпить. Конечно, большинство из них были отцы
семейств, или по крайности в этих летах, и я отлично знал, что до моего с ними
знакомства они исключительно занимались провождением времени в пивных.
Поэтому-то и приходилось часто иметь дело с человеком, слабо державшимся на
ногах. Знаю такой случай, что один из таких рабочих как-то уехал на какой-то
районный завод (в районе около Екатеринослава) к знакомым и, повидимому, желая
пропагандировать, захватил с собой несколько нелегальных брошюрок, с которыми и
был арестован. Когда по телеграфу дали знать адрес квартиры, то в квартире кроме
пивных бутылок жандармы ничего не нашли и потому сейчас же его освободили.
Бывали аналогичные случаи ещё не раз. Ввиду таких обстоятельств я особенно не
напирал на трезвость, но они сами чувствовали неловкость, и я знаю, что
некоторые совсем бросили употребление водки, а другие старались воздержаться.
Когда я возвращался домой с большого общего собрания, то было темно, и желая
обезопасить себя от неприятной возможности (это место считалось принадлежащим
{111} другому уезду, куда я не имел права являться), я
держал наготове писанный устав, дабы при случае его выбросить. И что же? он у
меня пропал из кармана, — это не на шутку меня встревожило; к счастью, имелся
черновик, с которого удалось после списать, и о пропаже никто не знал.
Разумеется, приходилось часто ездить в Нижнеднепровск и возить литературу, на
которую был спрос. Читатели уже научились хорошо хранить такие вещи, так что всё
шло хорошо. Некоторые рабочие отстали, испугавшись устава; всё же, работая
вместе, они знали про лиц, работавших рядом. С ними старались держаться
осторожно, предохраняя друг друга от опасности. Большинство этих рабочих
работало на заводе Франко-Русского товарищества, благодаря чему постоянно этот
завод волновался и часто доводил администрацию до комического положения.
Фабричному инспектору частенько приходилось ездить туда для умиротворения
сторон, не раз давал он честное слово защищать депутатов от расчётов и арестов,
что потом и доказывал на деле.
Начиная с лета 1899 г. почувствовался недостаток в работе, и зимой на
заводах начали сокращать количество рабочих; рабочие заволновались. Возникшая в
то время около завода Франко-Русского товарищества особая организация
агитировала за сокращение штата служащих и уменьшение жалования директору и
другим лицам. Не желая считаться с фактом, которым собственно одухотворяется
капиталистическое предприятие, организация требовала, чтобы завод работал полным
ходом. Мне тогда приходилось вести немало споров с горячностью и
непродуманностью рабочих и доказывать им, что удовлетворения таких требований
добиться невозможно. Как водится, на меня старались нападать и обвинять в
сочувствии капиталистам. Всё же, зная меня хорошо, постоянно прибегали к моим
услугам для объяснения по разного поводам вопросам. Комитет выпустил листок,
который как нельзя больше был своевременным.
В один прекрасный вечер — это было осенью 1899 г. — сидя после работы за
вечерним чаем, я был несколько удивлён, увидев торопливо вошедших в комнату двух
молодых людей из этого завода. Обоих, конечно, я знал довольно близко и хорошо.
Он объяснили, что у них назначили очень многих к расчёту, больше полсотни; по
этому избраны депутаты (количество таковых не {112} помню,
кажется, 13 человек) для ведения переговоров, которые завтра пойдут на работу.
Явившиеся товарищи были из числа депутатов, и я их хорошо знал. Нужно ли
говорить, что поневоле пришлось почувствовать некоторое удовлетворение. Ведь
переговоры будут вестись людьми, распространявшими идеи социализма, так как
почти все избранные депутаты являются социалистами, что безусловно доказывает
небесплодность работы и мы начинаем выступать как руководители на деле. Беда
была та, что это движение на заводе в данный момент носило характер не боевого
движения, а оборонительного, приходилось думать не о том, что мы выиграем, а о
том, что с меньшим ущербом можно уступить и притом, чтобы не дать жертвы
жандармам. Один из депутатов сильно горячился, доказывая, что можно потребовать
от правительства заказа, денег, отказа от расчёта рабочих, уменьшения жалованья
директору и всем мастерам и т. п.
Понятно увлечение со стороны молодого человека, мало читавшего, но верившего
в силу рабочих и социализм. Приходилось его охлаждать и доказывать невозможность
достигнуть в данном случае того, чего он хочет. После всего этого они оба
заявили, что так как они избраны депутатами, то пришли сюда за инструкциями, как
им завтра разговаривать с директором. Советы, конечно, уже были готовы и частью
были указаны в листках: первое требование — никого не рассчитывать; а второе —
сократить рабочий день на два часа; таким образом, если заработок и упадёт, зато
никто не будет уволен.
Заводская администрация согласилась на условия, предложенные депутатами, и
завод начал работать не по 10 часов, а только по восемь. Желая воспользоваться
этим на тот предполагаемый случай, когда у завода явятся заказы, чтобы
постараться удержать восьмичасовой рабочий день, мы выработали соответствующие
условия. Случай этот действительно произошёл, но я тогда уже уехал и не знаю
результатов; мне известно только, что администрация потом выписывала рабочих из
Твери, а местных, как беспокойных, рассчитала. Однако недолго пришлось заводу
работать со спокойными рабочими; когда меня везли жандармы в Екатеринослав, то я
видел тихо стоящий завод с запертыми воротами и мастерскими. Он прекратил свою
деятельность благодаря, общему кризису на юге России...
{113}
Около того же времени у нас с Морозовым происходили разговоры о создании
местной газеты. На издание первого номера нам предлагали сто рублей. Конечно,
самое главное было для нас — это достать шрифт, каковой мы и начали разыскивать,
что удалось очень скоро; оставалось только получить и сделаться его фактическим
хозяином.
Очевидно, приблизительно в это же время зародилась мысль о создании вообще
органа для южного района. Мне приходилось говорить по этому поводу с одним
интеллигентом, и не раз мы устраивали конспиративные встречи для обсуждения
этого вопроса.
Возвращаюсь к зиме 1898/99 года. Распространение листков к этому времени
сильно было затруднено благодаря сильной слежке полиции, и потому принимались
более существенные предосторожности. В то время как в самом начале листки
распространяли в Екатеринославе всего три-четыре человека, теперь количество
распространителей доходило от двадцати до тридцати и более человек. Где много
было народа, там шли четыре человека по одной улице (по каждой стороне два),
один совершенно чистый шёл впереди и сигнализировал об опасности, второй же шёл
с нагруженными карманами или кошёлкой и бросал в каждый двор по листку через
забор или ворота; если же улица была тихая и время позднее, тогда заходили во
дворы и вбрасывали листки в коридоры или клала их за ставни окна, так что даже
если полиция вздумала бы искать, то и то не всегда смогла бы найти подброшенное.
Когда идущий впереди замечал сторожа и давал сигнал, идущий сзади прекращал
работу и спокойно продолжал идти по намеченному пути. Если же четырёх не было,
тогда шли трое, и сигнальщик шёл посередине улицы, усматривая обе стороны.
Пройдя улицу, переходили на другую, третью и т. д. Раздавались листки для
распространения на все районы одним человеком; он знал, где и кто работает, он
же назначал заранее момент начала разброски. И вот лишь только настаёт этот час,
как в один момент высыпают на улицу по всем районам рабочие с листками, и
начинается работа: не пройдёт и часу, как многие возвращаются совершенно чистыми
по домам и спокойно засыпают. Только в больших районах, как Кайдаки, приходилось
ходить иногда больше двух часов.
{114}
Однажды во время такой работы мы проходили по улице Кайдак и кидали листки. Я
шёл, несколько отставши от других товарищей, и, наметив один дом, подошёл и
бросил листок, идущие впереди товарищи заметили патруль и дали мне знать, но я
продолжал свою работу. Когда солдаты оказались на коротком расстоянии от меня,
я, притворившись выпившим, остановился, посмотрел на них и, когда они миновали
меня, прошёл быстро вперёд и опять приступил к работе. Товарищи же попросили у
солдат защиты, якобы боясь идти по улице и, когда получили успокоительный ответ,
что никого нет, тоже прошли вперёд и продолжали сыпать по дворам листки. При
такой осторожности более чем в два года не попал в полицию ни один
разбрасывавший листки на улице, ни в заводе, и это до того приучило нас к
распространению, что не чувствовалось, почти никакой жуткости. Часто эти же
листки вбрасывали в окна солдатских казарм и около лагерей; заносили иногда и на
кирпичные заводы и клали под навес или под кирпичи, так что, убирая таковые,
рабочие, несомненно, находили их. Словом, не оставалось такого места, куда бы ни
заносили этих листков.
Как было упомянуто выше, путём переговоров и сношений с некоторыми лицами я
напал в одном месте на существование шрифта. Понятно, что я был очень рад такой
находке и поторопился сообщить об этом Морозову. После кратких соображений
пришли к заключению, что его нужно поскорее взять от этих людей, иначе они легко
могут провалиться, а вместе с ними провалится и шрифт. Я взял на себя ведение
дипломатических переговоров по поводу получения шрифта. Лица, имевшие у себя
такую драгоценность, были людьми далеко не выдержанными и воображали о себе
больше, чем они были на самом деле. Я знал хорошо одного из владельцев шрифта и
ценил его агитационные способности, но за болтовню страшно не любил и старался
держать его в стороне, хотя, пользуясь влиянием в ремесленных организациях, он
часто просил меня связаться с ними и, если окажется там что-либо
неудовлетворительное, указать способ исправления. Из чувства осторожности я
отказался, тем более что я был закален со всех сторон работой, которая требовала
к себе отношения не случайного и мимолётного, а очень внимательного и
серьёзного. Тогда он попытался проникнуть в наш заводский комитет
(Екатеринославский). Это ему {115} не удалось, и
впоследствии, когда другие люди делали давление с этой же целью, всё же ему
попасть туда не удалось. С этим-то человеком и пришлось вести переговоры и в
самом начале таковых пришлось столкнуться с неожиданным заявлением, что шрифт
принадлежит не одним нам, а ещё такому-то, и они сами желают издавать газету.
Такого оборота я не ожидал, а мысль, что они не на шутку вздумают выпускать
газету, меня испугала, тем более что у них во всяком случае не хватило бы уменья
и сил для этого; между тем пока что они могли под разного рода предлогами не
давать шрифт. Пришлось пускать в ход дипломатические извороты, приходилось
говорить и с одними, и с другими, но дело не ладилось. Хозяином считал себя тот,
у кого этот шрифт находился. Толкуя о разного рода планах по изданию газеты, я
узнал от них, что кроме шрифта они ничем не обладают, тогда я вызвался сделать
кое-какие приспособления для печатания, но поставил непременное условие
отпечатать их шрифтом один листок. Это их подзадорило, и они охотно согласились
сделать такое одолжение.
Теперь, когда удалось разыскать шрифт и переговоры клонились в благоприятную
сторону, когда нужна была только помощь со стороны городского комитета, то
последний почему-то через своего представителя выразил желание, чтобы мы не
входили ни в какие соглашения с этими людьми, и что они сами хлопочут в одном
месте относительно шрифта. Представитель из городского комитета сказал, что
довольно скептически относились к этого рода сообщению.
Между тем в скором времени предстояло выпустить майский листок, который во
что бы то ни стало мы желали напечатать шрифтом. Представитель из городского
комитета сказал, что можно напечатать гектографическим способом. У; меня
зародилось подозрение, что городская публика со своей стороны предпринимает ряд
шагов, чтобы достать тот самый шрифт, относительно которого я вёл переговоры.
Боясь возможности получения шрифта городскими товарищами, мы с Морозовым
чувствовали, как ускользает почва у нас из-под ног, и, естественно, начали
употреблять усилия, дабы опередить городских товарищей. Наскоро, не теряя ни
одной удобной минуты, делал я на заводе рамку, в которой был бы включён шрифт.
Не раз мастер видел, как я что-то работаю лично для себя, {116} но что именно, он не мог догадаться, а при натянутости
отношений он не желал вызывать какой-либо выходки против себя, да, очевидно, и
опасался кое-чего более худшего. Так или иначе, я всё же рамку сделал, и её
предстояло вынести из завода. Проделать эту операцию я попросил одного из
знакомых мастеров, который и выполнил это самым наилучшим образом, конечно, не
зная для чего мне нужны эти бруски. С готовой рамкой я отправился к владельцам
шрифта, и было уже время, потому что приближалось 18 апреля, а листки во что бы
то ни стало нужно было отпечатать шрифтом. К нашему желанию забросить гектограф
присоединилось ещё желание доказать городу возможность печатать шрифтом и скорее
и не более опасно, чем на гектографе, тем более, что листок, отпечатанный даже
неважным способом на шрифте, выигрывает не меньше, чем на 50 %. Когда я добился
согласия на получение шрифта, тогда город согласился дать всё, что он имел, и
обещал содействовать, если это потребуется. Содействие было необходимо в рецепте
для составления валика, которым бы можно было наводить краску, так как имевшийся
валик у городских товарищей оказался очень мал.
18 апреля был второй день пасхи, и, следовательно, нужно приготовить до пасхи
листки, дабы их можно было сейчас же пустить в ход. За три недели до пасхи
рабочий комитет на своём собрании постановил, чтобы к следующему собранию
окончательно были написаны и представлены листки от всех товарищей и, конечно, в
том числе и от интеллигенции (придерживались того правила, чтобы всякий член
комитета писал сам и уже на собраниях комитета решалось бы, какой листок более
удовлетворителен и подходящ, это было очень полезно для всех нас). Насколько
помнится, спустя неделю на рабоче-комитетское собрание листка от интеллигенции
доставлено не было по той причине, что, мол, очень хороший листок будет
доставлен для нашего города от партии. Мы плохо верили в это и гнули свою линию.
На собрание доставили три листка, из которых два были найдены очень подходящими,
и решили из двух составить один, редакцию же возложили на двоих и главным
образом на Морозова. Хотя Морозов сам не окончил листка, предназначавшегося к 1
Мая, и был противником обоих признанных листков, всё же должен был подчиниться
большинству и редактировать {117} листок, редакцию какового
должен был окончить не позднее, как дня через два.
Оставалось ровно две недели до пасхи, и мне приходилось поторапливать публику
и самому много бегать. Прежде всего нужно было приступить к разборке шрифта.
Этим мы занялись у товарища в, комнате (у владельцев шрифта). Как это было
неприятно, если взять во внимание нахождение шрифта у человека, которого весь,
город знает, и немало людей знает про содержание его чемодана. Но время было
горячее, особенно осматриваться, было некогда, и одного длинного вечера и ночи
было достаточно для разборки. Разобранный шрифт завязали в свёртки и положили
опять всё в чемодан, у которого даже не было замка. Проредактированный листок
после прочтения членами комитета в одиночку я отнёс для набора, где и пролежал
он около трёх дней, после чего набор твёрдо был, заключён в железную рамку и
легко переносился с одного места на другое.
И вот в это горячее время пошла одна неудача за другой. Первое — то, что
пустили слух о моём и Морозова желании завладеть навсегда этим шрифтом. Слухи
сильно подействовали на обладателей такового, и они наотрез отказались выдавать
для работы шрифт, и, чтобы легче избегать переговоров со мной, редко находились
дома, так что трудно было и поймать этих людей. Кто, собственно, в критический
момент так легко подставил нам ногу, я так впоследствии и не мог узнать, но,
несомненно, какие-то шашни были пущены в ход. Рядом с этим приходилось отливать
из массы валики, но тут при всей моей беготне неудавалось разыскать довольно
правильного круглого сосуда. При полной неудаче в поисках я, наконец, купил два
пористых горшка для электрических батарей, которые при работе оказались очень,
неудачными и раньше времени разбились. Масса же для отливки валика, составленная
из обыкновенного столярного клея 1-го сорта, и патоки, довольно долго не
удавалась, и, налитая в сосуды, не застывала... Отправившись к товарищу (члену
комитета), я просил употребить все средства и выточить (расточить) трубу, хотя
бы пришлось влопаться с нею перед, грозным начальством мастерской. Товарищ на
другой день остался работать ночь, кажется самовольно. И вот глубокой ночью, в
отсутствие начальнического, ока, закипела на станке работа, и часа через два с
небольшим {118} цилиндр был готов, расточенный довольно
хорошо и с маленьким конусом; оставалось только вынести из завода. Недолго
думая, товарищ отправляется к забору, и через минуту труба уже вне завода, а
рано утром — у меня на квартире. К двенадцати часам я с ней отправляюсь на Амур
(местечко за Днепром), в квартиру Морозова. В квартире на шестке стояла разная
посуда с составами клея и патоки, на полу сосуды с отлитыми валиками, всюду
признаки беспорядочности и государственного преступления. Тут же были и ручки и
стальные оси дли предполагаемых валиков, сделанные уже в третьем заводе и
третьим членом комитета.
Была суббота, и времени оставалось ровно неделя, приходилось не зевать и
стараться как можно энергичнее. Я был без работы и потому всё время мог
употреблять для этих целей, но Морозов и другие товарищи должны были усиленно
работать перед пасхой, а ночи трудиться не менее усиленно для предполагаемых
майских листков. Отливши в этот день на ночь валики, я отправился домой,
надеясь, что Морозов займётся завтрашний день этим делом, и, кажется, там же
предназначалось последнее собрание перед пасхой.
В понедельник на страстной неделе я пошёл и купил три стопы бумаги, которые
принёс домой, а вечером отправил на квартиру, где предполагалось печатание. В
тот же день я отправился за покупкой зеркала, которое долго искал, и, наконец,
нашёл подходящее по размерам и толщине. Помню, что долго я торговался с купцом,
желая купить насколько возможно дешевле. После долгого препирательства я купил
зеркало, вынутое из рамки, и. этим, выгадал, кажется, рубль. Прибавив ещё один
лист белой жести для краски, отправился к себе домой. Осталось только достать
набранный шрифт, и с этой целью я отправился в назначенную квартиру, т. е. в ту
квартиру, где мы рассортировали его, и там же набирали. Видимо, владельцы
допускали возможным печатание у них в комнате, лишь бы только им можно было
присутствовать при этом. Нужно ли говорить о невозможности допустить это, но,
зная, что они не желают дать нам шрифта, приходилось действовать на них не
столько дипломатией, сколько разными обещаниями; особенно приходилось напирать
на честное слово, даваемое им. После продолжительных несуразных разговоров
удалось расположить {119} их в свою пользу и потом забрать
не только набранный и заключённый в раме шрифт, но и вообще весь остаток и
приспособления. Взявши втроём по порядочному грузу на человека, но чтобы не было
особенно заметно, мы отправились на мою квартиру, где поздним вечером
производили опыты печатания и исправлений корректуры. Рядом в комнате жили мои
квартирные хозяева и не подозревали о производстве столь опасных манипуляций с
шумом жести и прокатываемым валиком по шрифту.
Оказалось, что опыты были очень удачны, и я, довольный достигнутым, отправил
своих помощников по домам. Была глубокая ночь и, зная, что рядом, за другой
стеной, спит домовая хозяйка, которая при первом подозрении может донести
полиции о моих проделках, и опасаясь шпионских выслеживаний, я осторожно и
крадучись прибрал всё под кровать и в чемоданы и тревожно заснул, опасаясь
нашествия. На другой день, лишь только начало темнеть, мы с товарищем забрали
весь шрифт и всё принадлежности и переправили всё на своих плечах в
конспиративную квартиру, т. е. опять же к товарищу, члену комитета, и там уже
расположились совершенно свободно. Оставалось получить валики для накатывания,
краски, которые и были принесены от Морозова. После долгих неудач удалось отлить
два валика очень удачных, но уже не боялись, что их не хватит для всей работы,
потому что перелить было нетрудно.
Кажется, в среду с утра я начал работать при помощи одной женщины, хозяйки
квартиры, предварительно завесивши все окна и заперши двери. Конечно, дело шло
не так быстро, но всё же поддавалось, и вскоре по растянутым ниткам висели
отпечатанные листки, от который: приятно было на сердце, а душа чувствовала
успокоение, что дело подвигалось вперёд. Вечером пришёл товарищ с работы, а
потом и ещё один, и дело закипело на всю ночь. Работали весело, шутили и в то же
время присматривались и изучали, чего, собственно, не хватает в нашей машине.
Оказалось, что шрифт был старый, и потому не могло выходить настолько хорошо,
чтобы удовлетворить нас; всё же можно было улучшить кое в чём, но не было пока
времени и средств. Последних особенно было недостаточно, так как из города
получено было на всё дело, на все расходы десять рублей, и с этими деньгами
пришлось обернуться и купить зеркало и бумагу.
{120}
В четверг я продолжал работать один с хозяйкой, но уже к четырём часам
собрались товарищи и в том числе Морозов, на которых я свалил тяжёлую работу.
Эта работа состояла в том, чтобы, прокатывать деревянным валиком, обтянутым
холщёвым полотенцем, по раме, но так как валик был очень лёгок, то каждый раз
приходилось нажимать его, наваливаясь всем корпусом, что при быстроте работы
довольно тяжело. Работали так: один наводил краску и нажимал валиком, другой
клал и снимал бумагу, третий развешивал и убирал высохшие листы, четвёртый
отдыхал или складывал листы. Ночью на страстную пятницу мы кончили печатать и
все разом принялись складывать листки в треугольники, а один накладывал
комитетскую печать. Хозяйка, измученная за эти дни, скребла стол и места пола от
попавшей краски и начисто вымывала комнату. Валики разобрали, и массу решено
было зарыть в землю. Словом, всё приводилось в порядок, и на случай жандармского
набега комната была очищена от всяких подозрительных предметов.
Оставалось распределить количество листков на район, которые и были вскоре
разложены на кучки по 200—300—400 штук, всего было около 3 000 штук. После того,
всякий брал в свой район определённую связку и уходил. Кроме того, нужно было
часть листков развезти в некоторые места и условиться относительно телеграмм.
Всего районов было около 10. Морозов жил тогда на Амуре и должен был взять с
собою 300 штук и распространить, для каковой цели были обещаны ему помощники.
Взяв эти листки, он направился к одному знакомому, откуда перед вечером ушёл.
В тот же вечер мне сообщили об аресте Морозова на вокзале. Ввиду этого
приходилось экстренно передать шрифт владельцам и убрать листки, предназначенные
для некоторых районов. Всё это и удалось отлично выполнить.
Теперь возникал вопрос: какие показания даст Морозов жандармам, что
предпримут жандармы и не будет ли устроено всюду ловушек для распространителей.
Вопросы очень щекотливые, всё же при обсуждении решили, не откладывая дела,
распространить листки в субботу поздним вечером (начиная от 1/2 двенадцатого),
чтобы утром в пасху, встав рано утром, всякий находил майский листок: При этом
решили употребить особую осмотрительность при распространении. Всё обошлось
очень хорошо,
{121} и никто нигде не был замечен. Возвращаясь домой
ночью, недалеко от моего дома я встретил обход из солдат и по их спокойному виду
убедился, что они ничего не знают, тогда как почти в каждом доме во дворе лежит
по листку. Чем же объяснить непредусмотрительность жандармерии?
По рассказам самого Морозова, он дал такое показание жандармам: что найденные
листки он получил от неизвестного человека, который просил принести их в субботу
в лесок, около железнодорожного моста, на лесном берегу, в котором будет
происходить собрание, и на собрании решат, как поступить с этими листками. И вот
жандармский начальник (он вёл дело Морозова в Петербурге) поверил словам
Морозова и с раннего утра нарядил жандармов и часть полиции в штатское платье и,
преобразившись сам, пошёл ловить предполагаемых социалистов. Прошло немало
времени, а собрания нигде не видно, не видно и никакой публики. Боясь, что его
кто-нибудь узнает, начальник переодевался несколько раз: это не помогло, и
изловить или схватить за хвост крамолу не удалось. Между тем день клонился ближе
и ближе к сумеркам, наконец, стало совсем темно, и сидеть под мостом не только
надоело, но было глупо и смешно. Оставив зоркие посты до утра, сам он удалился
домой, недовольный и сердитый на социалистов. И что же, в эту самую ночь
раскинули по всему Екатеринославу, его районам, уголкам и закоулкам, листки в
таком большом количестве, как никогда. Это были те самые листки, какие он видел
накануне у Морозова. Разъярённый жандарм вызвал Морозова из тюрьмы к себе, и
лишь только тот поспел войти к нему в кабинет, как он крикнул:
— Обма-нн-нул, сукин сын...
— Как? когда?..— еле удерживаясь от смеха, спрашивает Морозов.
— А кто вчера говорил, что будет собрание? не ты?!
— Почем же я знаю, оно, может, и было?
— Да как же было! Я сам вчера под мостом просидел целый день, три раза
переодевался, и ни один мошенник не явился. Всё это ты насочинял.
— Не знаю, может, они отложили пока своё собрание...
— А листки-то как явились по всему Екатеринославу?
Одураченный жандарм решил искать типографию, в которой были напечатаны
листки, но искал он её не в {122} Екатеринославе, а в
Твери, и хотя по его распоряжению кое-кого и обыскали и даже арестовали в
Екатеринославе, но типографии, печатавшей екатеринославские листки, не нашли.
Владельцы шрифта также обманулись, когда пришли на другой день ко мне на
квартиру за своим детищем, и тоже не нашли его. Конспирация была соблюдена
вполне потому, что люди, работавшие в типографии, все до одного были преданными
работниками, пересидевшими в тюрьме и хорошо закалёнными. Интересно, что когда
был обыск у Морозова в квартире, то, кроме бумаг, ничего не нашли, хотя все
горшки с массой - и клеем были в квартире, да и, кроме этого, было много
запрещённого. Чтобы не пало подозрение на Морозова, что у него были листки для
распространения, пришлось из разных мест убавить листков и распространить их на
Амуре, это удалось довольно хорошо. Так кончилась наша работа с майскими
листками, и тогда же мы попрощались с типографией, имея хороший опыт, который;
конечно, не будет лишним ни для одного из нас. Однако после случайного ареста
Морозова дело всё же пошло на убыль. Из рабочего комитета выбывали каждый месяц
товарищи, и к осени в нём остался один человек из старых работников, но и он сам
тяготел уже к городскому комитету, который являлся в данный момент вполне
удовлетворительным. Только строго придерживаясь принципа сохранения рабочего
комитета, мы употребляли все усилия, чтобы не позволить уничтожения рабочего
комитета во вред правильному движению. Мы ни в коем случае не хотели жертвовать
одним комитетом в пользу другого.
Хорошо не помню вспышки на железной дороге в мастерских, но, кажется, дело
было так. Предстояло отпраздновать день 25 июня в честь Николая I-го,
положившего начало открытия железных дорог. До этого года рабочие работали в
этот день только до двух часов или только до двенадцати, и это считалось за
целый день. На этот раз администрация решила, как говорится, «честь спасти и
капиталец приобрести». Она пожелала, чтобы рабочие явились на молебен после
двенадцати, а к часу с половиной явились бы на работу с тем, чтобы работать до 6
часов вечера. Конечно, если бы администрация пожелала упразднить этот день, как
напоминание о торжественности, то следовало бы только умолчать о молебне или
устроить его в самых мастерских (что, {123} собой вызвало
бы празднование), а не приглашать рабочих в церковь, да ещё в таком духе, что
приглашение являлось приказанием,— тогда, пожалуй, рабочие и отработали бы целый
день. Рабочий вообще любит царские дни как отдых, но если такое празднование
выражается в понукании рабочих пойти в церковь молиться за царя в своё время, а
не в назначенное, т. е. во время рабочих часов, тогда покойникам-царям да и всей
их челяди приходится ворочаться в гробу от той брани, которую в избытке
отпускает всякий рабочий по их адресу. Это самое и произошло 25 июня 1899 г.
Когда перед вечером 24-го вывесили объявление о том, что завтра работать должны
от 6 1/2 утра до вечера, с перерывом на обед и, что после двенадцати в церкви
будет отслужен благодарственный молебен, на который приглашаются все рабочие, то
среди рабочих появился такой ропот, какого никоим образом нельзя было ожидать.
Рабочие положительно возмущались объявлением, и почти каждый отклонялся, если
ему говорили, что вот, мол, день работай, в обед иди молись богу за умерших
царей. Неужели мы такие дураки, что позволим молча пропустить этот случай?
Придя вечером домой 24 июня, товарищ, работавший в мастерских, забежав ко
мне, но не застав меня дома, решил на свой страх ещё с одним товарищем экстренно
написать, при посредстве переводной бумаги, около двадцати прокламации, подписав
их именем Екатеринославского комитета (эта подпись являлась очень влиятельной и
производила на рабочих хорошее действие). Утром раскинули эти чуть видно
написанные и в ничтожном количестве листки по одному и по два в мастерскую. Это
произвело магическое действие, и листок читался в каждой мастерской до тех пор,
пока не истрепался совсем (после комитету не удалось достать ни одного
экземпляра). В листке требовалось окончить работу ровно в двенадцать часов и не
ходить в церковь, а всем идти домой обедать, после обеда не являться на работу.
Большинство вполне согласилось с листками, и в 12 часов рабочие пошли по домам,
за исключением нескольких, человек, направившихся в церковь. Товарищи не
дремали, и вскоре на воротах появилась грозная надпись мелом, что, если кто
осмелится пойти на работу после обеда, тому придётся жалеть о своём поступке.
Дальше следовало не менее грозное предостережение тому, кто осмелится стирать
{124} с ворот мел. Около часу дня собралась группа рабочих
— человек 50 — около ворот, но надпись удерживала всех от желания .пойти в
мастерские; мало этого: сторож, видя столько народу, боялся исполнить приказание
отметчика и жандарма и не стирал написанного на воротах... Раздавались
иронические восклицания, настроение было целиком за написанное, и многие
восхваляли написавших, хотя виновники стояли тут же и продолжали настраивать
толпу. Прогудел последний гудок, но ворота всё были заперты. Наконец, явился
жандармский офицер и открыл ворота, но желающих работать оказалось очень мало,
да, и те, которые вошли во двор, чувствовали себя очень неважно, и их в скорости
выручил тот же жандармский офицер, выгнавши на улицу, и мастерские закрылись до
завтрашнего дня. Редко бывали в году такие дни, когда железнодорожные мастерские
стояли без рабочих. Бывало, суббота ли, воскресенье или другой какой большой
праздник, работы всё равно производили как сверхурочные, а тут на тебе: все
мастерские без живого существа, это довольно выразительно. Комитет собирал
сведения, о настроении: чувствовалось что-то особенное, и все ждали другого дня.
На другой день волнение продолжало расти, и работы продолжались только
фиктивно. Стояло большинство верстаков, станков... вагонов и паровозов. Браться
за работу никто не хотел. Вскоре появилось объявление, о том, что за целый день
25 июня платить не будут, а только за полдня. Это окончательно прекратило всякую
возможность продолжать работу, и часть мастеровых, а потом и все побросали
работу и ушли домой. От комитета появились в большом количестве листки; полиция
и жандармы были на ногах и пускали в ход зубатовские приёмы. Работы
возобновились. Однако волнения не прекращались всю неделю и, кажется,
перекинулись через воскресенье на следующую неделю. За это время полиция и
жандармы продолжали высматривать более беспокойных рабочих и записывать их
фамилии. Наконец, волнения начали затихать, и всё предвещало мир и спокойствие,
но всё это было нарушено жандармами. Окончив вечером работу, мастеровые со всех
сторон спешили к выходным воротам. Лишь только часть их подступила к воротам,
как навстречу выбежал офицер с обнажённой шашкой и крикнул: «стой!». Рабочие
оторопели, солдаты с {125} ружьями оцепили рабочих, и тут
же, как из-под земли; выросли пристава, и началось деление рабочих: записанных в
книжках у приставов рабочих отводили в сторону и оцепили солдатами; другую часть
рабочих выпускали за ворота, где они натыкались на солдат с ружьями на перевес и
на команду: «налево», «направо» и т. д. Вышедшим из мастерских рабочим не
позволяли останавливаться около ворот и гнали их дальше. Около железной дороги
всюду образовались кучки рабочих, они ожидали, когда поведут рабочих в тюрьму
или в другое место, и возможно, что произошла бы кровавая стычка, так как
пробовали бы отнять арестованных. Жандармы, чтобы избежать этого, продолжали
делать вид, что держат рабочих в мастерских около ворот, в то время, как сами
торопили рабочих, окружённых солдатами, двигаться совершенно в обратную сторону,
и окружным путём повели их через весь город к; тюрьме. Прошло около часу в
ожидании, когда рабочим удалось узнать о судьбе своих товарищей. Чувствовалось
страшное разочарование, и обида закипела у всякого рабочего, но что делать?
Собравшиеся рабочие вышли на небольшую площадь, на углу Трамвайной улицы. Кто-то
бросил камнем в раму одного дома: стёкла зазвенели, толпа готова была уже
разрушить дом, в котором жили сами же рабочие и часть евреев. Находившийся в
этой толпе один из членов комитета сейчас же остановил толпу от этого, указав на
то, что в этом доме живут «ваши же братья рабочие». Толпа повернула в сторону от
этого дома, соглашаясь со словами крикнувшего товарища; Навстречу шёл молодой
парень-еврей. Он, видимо, ничего не подозревал, когда кто-то из толпы его
ударил. Ему, видимо, грозила сильная опасность, когда опять тот же товарищ
выбежал вперёд и крикнул, чтобы не трогали его, поясняя толпе невинность этого
человека; которого полиция жмёт не меньше, чем их в данный момент.
— Что вы делаете? Вы направились освободить ваших братьев от врагов, полиции
и жандармов, ваши товарищи отправлены в тюрьму, туда вы должны идти и
освобождать их.
Толпа с криком направилась в сторону тюрьмы, всё время провожаемая полицией,
которая дала знать о направлении идущей толпы. И когда толпа подошла к тюрьме, к
этому времени у тюрьмы выстроилось войско, а арестованные рабочие находились уже
внутри тюрьмы. {126} В это время был арестован один из
членов комитета благодаря одному поступку, который выделил его из остальной
массы. Особой стычки с войском не происходило, а стянувшаяся со всех сторон
полиция старалась рассеять собравшихся рабочих.
После этого ещё долго озлобление у рабочих не проходило, но вскоре стали
освобождать рабочих, и недели через две почти всех до одного освободили без
особых последствий. Работавшие в железнодорожной мастерской товарищи,
распространявшие листки, не были замечены; таким образом, мы и тут не
пострадали. Только один член выбыл из комитета, и то благодаря своему увлечению,
в трудную минуту не выдержав роль до конца. Другой же, находившийся всё время в
толпе, благополучно продолжал работать. После этого как будто чувствовалось
спокойствие.
Было лето — и комитетские собрания происходили на воздухе в разных местах.
Помню, как в одно воскресенье мы собрались около лесных складов на берегу Днепра
в центре города. Когда все собрались, то чувствовали большую неловкость сидеть
на виду у всех мимо проходящих людей, в то время как приходилось часто прибегать
к карандашу и бумаге. Не найдя укромного местечка между досок и брёвен, мы
забрались в пустую барку и открыли на ней очень удобное помещение,
расположившись в котором приступили к обсуждению своих дел и благополучно
закончили собрание. В другой раз мы поехали на лодке в окрестности; в следующий
раз — в другую местность, и так каждое воскресенье продолжали благополучно
собираться и совещаться. Особенно часто подымали вопрос о печатании листков
шрифтом, так как после майских листков опять пришлось пользоваться гектографом
благодаря отказу со стороны города делать листки иначе, а также благодаря
отсутствию квартиры для этой работы, Я и товарищ положительно находили возможным
печатать где-либо в отдалении от города в кустах берега, но со стороны города не
могли добиться согласия в получении шрифта, каковой был у них. Что же касается
неудовлетворения не только нас, комитетских рабочих, но и самых заурядных
мастеровых способом печатания на гектографе, то об этом свидетельствовал такой
случай. На одном заводе (трубном) мастеровые, читая листки, говорили о
неудовлетворительности типографии, {127} а потому собрали в
получку 10 рублей с копейками и просили передать на улучшение типографии— и
только на это.
Не поспела сгладиться история волнений на железной дороге, как разразившийся
бунт в Мариуполе приковал всё внимание рабочих Екатеринослава. И было о чём
говорить. Сведения, получаемые оттуда, волновали всякого, но досадно, что долго
не удавалось получить сколько-нибудь достоверных сведений. Свои люди были
арестованы, между тем были нужны прокламации как для Екатеринослава, так ещё
больше для самого Мариуполя. Наконец, это удалось, и распространённые листки
удовлетворили потребность рабочих. Особенно важно иметь в виду, если только в
данной местности часто появляются листки, то чтобы они своевременно выходили и
говорили более подробно о произошедшем явлении, не преувеличивая и не умаляя.
Если удастся возбудить доверие рабочих к листкам, то во время стачки или
волнения они охотно соглашаются со всем, о чём говорится в листке, а это и есть
тот рычаг, которым удаётся направлять движение к намеченной цели.
Первое время, когда было мало ещё людей, принимавших непосредственное участие
в пропаганде и агитации, тогда гораздо легче было следить за конспиративностью
отдельных лиц, но как только круг рабочих, принимающих участие в движении,
расширился, то сейчас же стали заметны промахи отдельных личностей, Но и при
этих промахах жандармам редко удаётся узнать что-либо подробное о том или ином
лице, а обо всём деле — ещё меньше. Мне часто приходилось неприятно поражаться,
что какой-либо недальновидный товарищ рассказывает про меня или кого другого
своим молодым друзьям, и когда с ними встречаешься, то узнаёшь, что хотя их и не
знаешь, но они тебя знают. Притом теряется наклонность к конспирации, и если
человек горячий я увлекающийся, то он позволяет себе просто удивительную
смелость. Так, один молодой товарищ прямо читал в мастерской во время работы
нелегальную книжку собравшимся рабочим, и когда мастер подошёл и вырвал её из
рук, то ничуть не смутился и только жалел книжки. Конечно, это могло причинить
массу неприятностей, но мастер был хороший знакомый наш, и хотя — прохвост, но
ради знакомства не позволил себе сделать нам пакость. Другой {128} товарищ устраивался мастерской трибуну, с которой говорил
мастеровым. И только благодаря тому обстоятельству, что почти до одного человека
в этой мастерской все люди были сочувствующими или причастными к движению, то
они, конечно, молчали о таких выходках со стороны некоторых невоздержанных
людей. Всё это мне сообщали, и я ничего не мог против этого поделать, потому что
слишком расширился круг знакомств и, следовательно, мало имелось времени, чтобы
беседовать подольше с такими горячими головами. Других же они или не слушались
или прямо игнорировали, вызывая этим своего рода неудовольствие, которое
впоследствии приходилось улаживать.
К этому времени в Нижнеднепровске благодаря одному рабочему возникла новая
группа. Эта группа с самого начала встала в контр комитету и никоим образом не
желала (главным образом этот рабочий) пойти на какие бы то ни было уступки.
Приходилось вести борьбу, сначала словами, но когда из этого ничего не вышло,
группа пожелала наименовать себя тоже комитетом и выпускать листки специально
для завода Нижнеднепровских франко-русских мастерских. Тогда пришлось войти в
неё и начать работать в её лагере над тем, чтобы по возможности парализовать её
влияние в среде рабочих во вред комитету. Притом приходилось сильно опасаться за
неконспиративность этих людей и за лёгкость провала, который, несомненно,
потащит и нас за собой, и дело сильно пострадает. Образовавши у себя кассу, они
наименовали организацию «Рассветом». Несомненно, у них, как у рабочих, было
достаточно денег, и они принялись их расходовать на листки. Они непременно
хотели выпускать каждый день по листку или хотя один листок в неделю, но их
непрактичность всё время мешала им мало-мальски хорошо поставить технику. Между,
тем часть средств они уже израсходовали впустую.
В это; время я созываю собрание их группы и настойчиво прошу, чтобы на
собрании присутствовал и их вожак, который каждый раз систематически уклоняется
от встречи со мной. В то же время, если мне удавалось кое-чего добиться, то он
за моей спиной старался разрушить. Такие штуки ему почти всегда удавались, так
как я очень редко приезжал в Нижнеднепровск. В его непримиримости большую роль
играла его ненависть к интеллигенции {129} с которой он
положительно не желал встречаться, и почему-то меня считал тоже интеллигентом.
На это собрание он тоже не явился, и мне пришлось говорить опять помимо него, с
другими членами «Рассвета». Я указал им на невозможность работы помимо комитета
и на ту неосторожность, с которой они работают, на пустую трату с. трудом
собранных денег и на то, что мы положительно откажем им во всякой иной
литературе, а с одними листками они будут чувствовать себя очень скверно. Часть
членов была безусловно на моей стороне и до собрания... Я предложил
присоединиться их группе к комитету и обещал тогда дать им и литературы и
интеллигента, для руководства работой, но чтобы они сами не смели ничего
выпускать помимо комитета. Собрание со всем согласилось и решило в положительном
смысле все поставленные мною вопросы. После этого являвшийся туда интеллигент
продолжал действовать в том же направлении, и всякий сепаратизм был уничтожен.
Это было как раз перед сокращением работы на этом заводе (см. выше), когда нужно
было правильное руководство при возникавших почти ежедневно столкновениях с
администрацией.
Возвращаюсь на минуту к кооперативной лавке.
Прошло три месяца; в течение которых внимание к лавке сильно ослабело со
стороны главных членов-инициаторов, в том числе и меня. Как я указал уже, при
самом возникновении лавки капитала было слишком мало, а притока в дальнейшем
совсем не происходило, за исключением разве грошей от самого старичка, которые
не только не брал, но постоянно вкладывал остаток своего заработка в это дело.
Он жаловался на индиферентность причастных лиц и один самостоятельно выполняя
все обязанности по закупке товара, ездил в город, сидел в лавке каждую свободную
минуту и, видимо, сильно тяготился этим предприятием, да и семейное положение
как будто смущало его. Мне было ясно, что у нас сидит человек в лавке, который
только тогда сможет хорошо выполнять работу, когда увидит, что работает лично
для себя, а не для других. Сидела же в лавке жена старичка, привыкшая покорно
исполнять желания мужа, и только. Понятно, что как только она узнала скрытую
сторону этого предприятия, так охладела к своим обязанностям. Мы же постепенно
убеждались в невозможности вести: дело и только смотрели, как оно катилось под
гору.
{130}
Прошли три месяца, и мы вновь все (5 человек) собрались для обсуждения столь
важного для нас вопроса. Поставлен был вопрос: ликвидировать ли дело или
продолжать торговать дальше? Как для первого, так и для второго требовались
средства. Дело обстояло так, что нужно было платить за помещение, или при
прекращении торговли уплатить 50 рублей неустойки — это одно. С другой стороны,
лавка роздала в долг товару на 80 рублей, которые никак не удавалось собрать (не
давать в долг товар было положительно невозможно, потому что в других лавках
рабочие забирали тоже в долг), притом выяснилось, что некоторые торговцы
продавали товар дешевле нас и даже иногда в убыток или за свою цену. Это
положительно сбивало с толку нашего заправилу, хозяина, и, при некоторой
наблюдательности, наконец, удалось выяснить причину. Оказалось, что, продавая
дешевле нас, они давали неполный вес и иногда крали фунтов до семи с пуда. Хотя
мы открыли, таким образом, причину конкуренции, но, конечно не могли ничего
поделать, и понятно, что большинство покупателей неохотно шли в нашу лавку, если
рядом видели более дешёвую, совершенно не подозревая, что дешёвое выходит
поистине дороже дорогого. Мы же от этого чувствовали только большой ущерб, и
бойкое место ничуть не выручало нас из беды. Итак, приходилось часто отпускать
товар в кредит, что в свою очередь приводило к тому, что перед получкой
жалованья наша лавка пустовала от всяких товаров, и только во время получки
притекшие деньги позволяли делать кой-какие закупки. Словом, наше предприятие
спотыкалось ежеминутно и постоянно грозило сломить себе голову. Теперь
приходилось решать очень сложную дилемму и желательно было выйти из затруднения
с честью. Самыми сильными кредиторами лавки оказывались в данный момент старичок
и его лучший друг-приятель, поэтому при ликвидации им пришлось бы нести
наибольший ущерб. После краткого ознакомления с положением пришли к заключению,
что дольше продолжать торговлю на кооперативных условиях невозможно, если же
прекратить торговлю, то пришлось бы понести неустойку, и был риск не получить 80
рублей долгу. Товару в лавке находилось на 100 рублей с небольшим. Как
поступить?
{131}
После некоторого обсуждения предложили старичку взять эту лавку в частную
собственность с условием выплаты затраченной из общественных капиталов суммы,
равно и уплаты по данным векселям, не менее чем по 10 рублей в месяц. Хотя
старичок как будто неохотно согласился на наше предложение, но лучшего выхода не
предстояло, и он согласился на наши условия, выговорив заранее, чтобы ему дали
свободу не платить ничего в первые два-три месяца. Мы согласились, и вот наше
кооперативное учреждение перешло в частные руки.
Впоследствии это создало немало неприятностей для меня, хорошо знакомого с
душой этого предприятия. Многие прослышали, конечно, что лавка основана на
кооперативных началах, но как именно она основана, они этого хорошо не знали, да
и узнали-то слишком поздно, когда лавка уже перешла в частные руки и когда за
деятельностью её не могло существовать никакого контроля. Старичка стали
упрекать прямо в глаза, что он открыл лавку на общественные деньги, которые он
как будто бы присвоил себе самым бесчестным образом. При этом как доказательство
справедливости таких взглядов ставилось ему на вид, что он теперь мастер (он в
это время был мастером). Понятно, что человек должен был сильно обижаться на
такого рода отношение к себе и очень часто горько жаловался на такие обиды.
Сколько мог, я старался втолковать своим знакомым несправедливость их обвинении,
всё же устранить их совершенно я не мог. Я продолжал находиться в хороших
отношениях с этим старичком и однажды попросил поместить у него в мастерской
одного знакомого мастерового. Он удовлетворил мою просьбу, но видимо
впоследствии сильно каялся в своём поступке. Дело в том, что вновь поступивший
товарищ был страшно самолюбивым человеком и считался только с моими замечаниями,
других же он игнорировал и вообще держал себя довольно несимпатично. Обо веем
этом мне сообщали, и при встречах я ставил ему это на вид. В конце концов, у
него произошла стычка со старичком, как с мастером данной мастерской. В пылу
ругани мастеру пришлось вынести массу оскорблений, и он, не найдя ничего
лучшего, приказал вывести за ворота товарища, а потом назначил ему через две
недели расчёт. По этому поводу я принуждён был съездить к старичку и дружески
убедить его отказаться от своего намерения.
{132}
Я настаивал, чтобы он не рассчитывал товарища, он же настаивал на своём
решении. Хорошо помню, как этот старый семейный человек заплакал передо мной,
очень молодым в сравнении с ним человеком. Он старался доказать мне, что ни
может оставить товарища продолжать работать, и в то же время сам чувствовал
невозможность употреблять такие способы по отношению к рабочим. Вся эта история
была наглядным доказательством того, что служить двум господам невозможно, в чём
он вскоре и убедился. Он часто сообщал мне о секретных собраниях мастеров с
директором, о вопросах, которые они обсуждали, и т. д. Словом, продолжал
оставаться всё тем же старичком, каким я его встретил. Но это была моя последняя
встреча с ним. Он тогда же уплатил мне остаток суммы, собранной мной для
кооперативной лавки. Уходя от него, я увидел, что по отношению ко мне, по
отношению к делу, поскольку оно является общим, он оставался в течение двух лет
совершенно честным человеком. Но я видел его слёзы, видел его тревогу и многое
другое. Извлекать из него пользу и в дальнейшем мог бы умелый и осторожный
человек, потратив лишний час для беседы с ним. Время же было слишком горячее, и
всякая свободная минута ценилась, и притом нам нужны были люди посильнее этого
старичка, люди, умеющие жертвовать всем и собою. И вот, попрощавшись дружески, я
ушёл от него; но изредка всё-таки приходилось его тревожить. Вскоре
последовавшее сокращение заработков заставило его изворачиваться побыстрее, но
даже его друзья прониклись недовольством к нему, к тому же и мой знакомый не был
рассчитан, и, понятно, неудовольствие росло. Как-то я должен был иметь свидание
с человеком из этой мастерской, которого я знал довольно давно. На состоявшемся
свидании (на проспекте) он изложил общее неудовольствие мастером, хотя он был
его друг, и спрашивал совета, как им поступить. Мне думалось, что, если мастером
состоит свой человек, который замаскированно поддерживает протест, он будет
полезен, но коль скоро мастером состоит свой человек, который старается
заглушить протесты и по необходимости частицами уступает администрации, в то же
время как свой человек вызывает семейное неудовольствие, а не ненависть, такой
мастер для движения вреднее прямого врага. И потому я посоветовал собраться на
частное собрание человекам пяти- {133} шести и пригласить
на это тайное собрание мастера и на нём дружески попросить его отказаться от
мастерства. Впоследствии мне удалось узнать, что он ушёл из мастеров и даже
сидел три месяца в тюрьме. Этим я и закончу о старичке…
В эту зиму у нас комитет настолько обновился, что из старых остался только
один, остальные все были свежими для Екатеринославского комитета...
Начиная с осени 1899 года усиленно торопили печатание новой газеты. Я
лично знал обо всём этом, но не знал где она будет печататься, хотя считал
возможным, что она напечатается в самом Екатеринославе; не знал я также названия
предполагаемой газеты. Всё это хранилось, в строгой тайне, Помню, было созвано
собрание городского: комитета, на котором читались некоторые статьи; помню одну
— о рабочем движении в Екатеринославе и потом стихотворение «Беснуйтесь,
тираны». Всё это было принято. Тут же обсуждался вопрос о посылке делегата на
социалистический конгресс, но это было только предварительное ознакомление, а
выбор такового зависел от некоторых обстоятельств в дальнейшем. Это было в конце
1899 года.
Если взглянуть на год с лишком назад, то общий рост движения за 1898 и
1899 годы чувствовался сильно. Рабочая масса была уже до некоторой степени
избалована прокламациями и начала предъявлять спрос на более серьёзную
литературу и на лучшую, постановку технической стороны. Плохо
отгектографированные листки читались, уже не так охотно. Начали критиковать
работу и, конечно, не прочь были бы и помочь делу, если бы дело не было так
конспиративно. Приходилось забросить старый способ, печатания и придумывать
новый. В общем мы все соглашались с тем, что прокламации отжили своё время и
выполнили свои обязанности. Нужна газета более содержательная, чем все листки,—
об этом говорит всякий.
И вот в январе 1900 года, наконец, вышла долгожданная газета «Южный
рабочий». На рабочем комитетском собрании она была частично прочитана. Новинку
пожелали спрыснуть и устроили маленькую выпивку; тут же условились, когда и где
распространить её. Разумеется, всякий рабочий хватался за газету с особым
интересом, а приученный листками, он неохотно отдавал её полиции или мастеру.
{134}
На Брянском заводе в прокатной рабочие нашли один номер газеты и были очень
удивлены содержанием:
— Смотри, да это как настоящая газета! Вон и хроника и корреспонденция!
И тут же пошли в укромное место почитать эту газету. Эта первая газета
осталась у них надолго в памяти и подняла настроение, так как они увидели, что,
несмотря на аресты, деятельность не только не сокращается, но, наоборот, всё
становится более умелой и сильной.
Нужно сказать, что в течение двух с лишним лет рабочие воспитывались на
прокламационной литературе, и за это время не происходило арестов среди самой
массы, хотя конечно, это было бы желательно, так как приучало бы массу к такого
рода случаям и не производило бы того ошеломляющего действия, которое всегда и
всюду можно наблюдать, если аресты произойдут неожиданно. Плохо, конечно, опять
же, если арестуют кого-либо из руководителей, — это приостанавливает
деятельность, чего не следует никогда допускать, как говорится, лезь из кожи, но
не давай виду, что ты или твоё дело пострадало от того-то и того-то.
Ещё в начале зимы я чувствовал особый надзор за собой и потому старался быть
крайне осторожным. Сделанный на меня в это время жандармский набег ничего им не
дал, и они оставили меня на свободе, о чем после очень жалел жандармский
начальник. Приходилось ожидать каждый день нового набега, от которого я ожидал
худших последствий, но уехать все же было нельзя, и я положительно считал дни,
которые мне оставалось прожить в Екатеринославе. Наконец, желанный день настал,
и заранее связавши вещи так, чтобы не знала домовая хозяйка я пошёл и взял
извозчика. Только тогда домовая хозяйка узнала о моём выезде. Она сделала верное
предположение о том, куда именно я еду, и сейчас же после меня пошла в часть и
сообщила, куда я уехал. Её за это поблагодарили и всё записали в книгу.
Поезд мчался по Николаевской железной дороге, приближаясь к Питеру, и я
вскоре должен был увидеть знакомые мне улицы, а потом и людей. В боковом кармане
у меня находился настоящий паспорт одного благонадежного лица, и с ним я смело
мог появиться в любом месте. Этим и закончу я свои воспоминания о
Екатеринославе. Напрасно было бы искать в них систематичности
{135} {136} и широко психологического анализа настроения масс.
Я не старался об этом, да и для этого потребовалась бы совершенно иная форма
изложения.
Настоящие воспоминания, как относительно Петербурга, так и Екатеринослава, я
отдаю в полное распоряжение архива «Искры», и только с согласия последней можно
ими пользоваться, и с моего согласия в отдельности.
Продолжение воспоминаний относительно центра России я могу обещать написать,
но не здесь.
{139}
Орехово-Зуево (местечко Никольское). Раньше, чем приступить к
описанию больничных порядков у Саввы Морозова, считаю нужным сказать несколько
слов, характеризующих местное положение. Для нас, орехово-зуевских рабочих,
небезинтересно познакомить через рабочую газету «Искра» как своих рабочих, так и
рабочих других городов и других профессий с нашими иногда чудовищными порядками.
Не говоря уже о том, что всякий сознательный рабочий должен интересоваться
рабочим вопросом, но есть много людей, которые сами не рабочие, а всё же
интересуются этим вопросом и сочувствуют классовому рабочему движению… Как бы ни
держали нас в невежестве своими хитросплетёнными софизмами пресловутые попы,
идущие рука об руку с капиталистами и властями русского правительства, — рабочие
всё же видят своё жалкое рабское положение.
В местечке Никольском работает до 25 тысяч человек у двух фабрикантов: Викулы
и Саввы Морозовых, а всё население Орехова состоит из 40 тысяч человек, живущих
на расстоянии девяти квадратных вёрст. И при таком количестве и такой
скученности населения рабочее движение тем не менее очень тихое и сонное; эта
сонность происходит главным образом от полной умственной голодовки. У нас нет
литературы, которая встречается в столицах и других больших городах, к нам не
попадают и рабочие из таких городов, и благодаря этому мы не знаем, где и как
ведётся дело. Взяться же самим у нас не хватает смелости и отчасти знания. Вот
образчик наших {140} порядков и нашего материального
положения, который мы приводим без всяких преувеличений и в полном согласии с
фактами.
У нас есть две больницы: одна Викулы, другая Саввы Морозова. Постараюсь
описать больницу для рабочих Саввы Морозова. Больница находится около
чугунолитейного завода (завод служит для фабрики) и жилых рабочих помещений
(казарм). Место вредное и для жилых помещений, а для больницы тем более. Морозов
сдал свою больницу за известную сумму одному эскулапу, доктору Базелевичу. С
больными доктор Базелевич обращается, как настоящий живодёр. Труды его даром не
пропадают: он отлично умеет сдирать шкуры с изнеможённых рабочих. Чаю и сахару
больным не полагается, а есть только кипяток, и тот только до шести часов
вечера. Пища очень скверная и то не в достаточном количестве. К ужину подают
кислые щи или другую такую же похлёбку. Больные голодают в буквальном смысле
слова. Только те и сыты, которых навещают родные и знакомые. Ввиду полуголодного
содержания больных Базелевич не возбраняет приносить в больницу всё, а потому
родные несут и кислую капусту, и селёдки, и хлеб, и квас, — одним словом, всё,
что есть. Кормят больных по нескольку (4—5) человек из одной посуды зараз. Бельё
содержится очень грязно, и всегда можно заметить на простынях и наволочках очень
сомнительные пятна. Вот как рассказывает один рабочий о своём посещении: «Раз я
пришёл в числе посетителей, в больницу. Подходя к знакомому, я обратил внимание
на рядом лежащего больного. Это был молодой человек в длинной грязной рубахе, в
коротких грязных кальсонах и разных чулках (один белый, другой красный). Больной
страдал ногами. Когда я беседовал, то молодой человек жадным, измученным
взглядом смотрел на меня и, наконец, произнёс: ради христа, дай кусочек хлебца,
я чуть не умираю с голоду, так как меня никто не посещает.
Лечение в больнице возмутительное — одной водой и дешёвенькими порошками. Сам
Базелевич очень редко принимает больных. Он нанял двух врачей, а сам только
следит за выдачей лекарств.
Тут же существует родильный приют, который замечателен своей нелюбовью к
пациенткам — больных принимают только дня за два до родов, отговариваясь тем,
что {141} они слишком рано приходят есть хозяйские харчи. В
январе этого года был такой возмутительный случай: акушерка отослала назад
домой беременную женщину. Отойдя немного от больницы, женщина родила на дороге.
Как видите, товарищи, наше положение в больнице у Саввы Морозова не из
приятных. Наше здоровье, наши силы превратились в частицу морозовских миллионов.
Морозов богатеет, а мы принуждены проводить последние дни жизни, протягивая руку
за куском хлеба. Ну, а если мы попадём в богадельню? В следующем письме мы
увидим, чего можно ожидать там.
(«Искра» №4, май 1901 г.)
***
Из Иваново-Вознесенска сообщают о целом ряде мелких фабричных
протестов, которые показывают, что обострение нужды, вызванное кризисом, и
ведущаяся местными социал-демократами агитация не проходят бесследно.
После пасхи 12 рабочих на ткацкой фабрике Зубкова, уволенных за неспокойный
нрав, потребовали и добились от фабрики уплаты за две недели, как это требуется
законом. Как водится, фабричный инспектор не только не поддержал законное
требование рабочих, но и пытался запугать их окриками и бранью. Только
настойчивость рабочих, грозивших жалобой на самого инспектора, побудила этого
«сохранителя закона» исполнить свой долг.
На фабрике Дмитрия Бурылина рабочие отбили попытку фабриканта отнять у них
праздник 8 мая (Ивана Богослова), доселе бывший на этой фабрике нерабочим днём.
Там же женщины пытались добиться повышения своей заработной платы, но
безуспешно.
На фабрике А. И. Гарелина 4 июня все рабочие отправились к фабричному
инспектору и предъявили ему требование об удалении надоевшего им табельщика.
Требование было предъявлено настолько энергично, что фабричный инспектор
посоветовал управляющему его удовлетворить, что и было в конце концов исполнено.
На чугунолитейном заводе Калашникова (200 человек) сокращение расценков
привело к уменьшению заработков вдвое. 15 мая натянутое положение между
литейщиками и администрацией завода приняло самый острый {142} характер. Получив месячный расчёт, литейщики в количестве
70 человек заявили о своём нежелании заключать договор на условиях, предлагаемых
администрацией завода, и потребовали возвращения к старым условиям —
полугодовому найму (вместо месячного) и зимним расценкам. Заводоуправление
отказало в требовании литейщиков, угрожая заместить их рабочими из других
городов. Литейщики дружно отказались от возобновления найма и отправились к
фабричному инспектору просить о посредничестве. Фабричный инспектор
отказался от всякого вмешательства в это дело, так как-де хозяин имеет право
изменять принятую систему найма и расценки.
Заводоуправление стало вербовать рабочих в Шуе и Москве. Из Москвы выписано
было десять рабочих, от которых при найме скрыли, что зовут на места
стачечников. Обещан им был хороший заработок: 75—80 рублей и больше в месяц. Но
когда москвичи прибыли в Иваново-Вознесенск и увидали, на какую роль их
приглашают, они заявили иваново-вознесенцам, что привезены обманом, и если бы
знали о стачке, то не приехали бы. «С этого времени между ивановцами и
москвичами установилась полная солидарность, и вскоре же москвичи отправились к
фабричному инспектору с жалобой на завод. И хозяева, боясь осложнений, тут же
отправили одного из беспокойных литейщиков обратно в Москву».
В Шуе нанятые было литейщики, как только узнали о стачке, отказались ехать.
Тогда Калашниковский завод сдал часть своих неотложных заказов заводу анонимного
общества в Шуе, администрация которого состоит в родстве с администрацией завода
Калашникова. Рабочие завода Калашникова обратились к Иваново-Вознесенскому
комитету Соц.-Дем. партии с просьбой о воздействии на шуйских рабочих. Комитетом
были выпущены прокламации к рабочим завода анонимного общества. Прокламации
вызвали забастовку, и рабочие потребовали, чтобы от Калашникова заказы не
принимались. Администрация обещала удовлетворить это требование, приглашая не
прерывать работы и ожидать приезда хозяина. По приезде последнего рабочие
получили «угощение» водкой, а те из них, которые не работали до приезда хозяина,
получили расчёт либо штраф.
Стачка на Калашниковском заводе продолжалась полторы недели и кончилась
частичной уступкой — повышением {143} расценков до зимней
нормы. Москвичи отправились домой, и калашниковские литейщики устроили им сбор
на дорогу. «Хозяйские забегалки,— пишет корреспондент,— ознакомили своих рабочих
с москвичами и тем оказали им некоторую услугу, показав, что экономические
потребности здешних рабочих много ниже, чем в других городах».
Понятно, что все эти проявления протеста не могли не вызвать вмешательства
царских опричников. «Полиция, пишут нам, за последнее время стала особенно чутка
и наблюдательна за рабочими, а первого мая не было места, где бы не встретился
полицейский». В ночь с 17 на 18 мая над Иваново-Вознесенском пронёсся
жандармский ураган, который выразился в аресте девятнадцати человек рабочих. Из
арестованных удалось узнать следующие фамилии: Г. Ляпин, Н. Голоухов, Белов,
Королёв, Филиппов, Жаров, Баринов, Боголапов, Мокруев, Воробьёв, Соколов,
Гаравин. Арестованные содержатся частью в местной тюрьме и по фабричным
арестантским. Таскают многих в тюрьму на допрос; из них задержали троих. Дело
ведут местный полицмейстер и жандармский ротмистр, ведут очень глупо, подчас
забирают безграмотных. Интересно, нам удалось узнать, что за несколько времени
перед арестом Баринов был приглашён к полицмейстеру, который предлагал ему
поступить к жандармам в шпионы. Баринов отказался, говоря, что его все знают и
могут скоро прикрыть. На это в утешение полицмейстер предлагает два-три
револьвера, но и это не соблазнило Баринова. Спустя два дня Баринова уже
приглашает жандармский ротмистр, который уже предлагает рублей на 5 больше, чем
полицмейстер (последний предлагал 15 рублей), и просит Баринова, чтобы он указал
главных деятелей. Баринов отказался. Теперь его арестовали, очевидно подозревая,
что он самый главный.
Не знаем, жалеет ли Баринов, что он не получил 15 рублей, но зато уверены,
что ротмистр и полицмейстер очень жалеют, что за 15 рублей им не удалось узнать
главного.
Просят остерегаться конторщика Колычева на фабрике Гарелина (чёрный,
сутуловатый, говорит басом). Будучи однажды арестован, рассказал всё, что знал,
благодаря чему многих забрали.
{144}
Из Шуи пишут о возмутительных порядках на ситцепечатной, ткацкой и
прядильной фабрике Павлова (до 3 тысяч человек). На этой фабрике хозяин с
сыновьями в полном смысле слова — развратники, и один из сыновей
доразвратничался до сумасшествия и теперь находится в психическом недомогании и
получил дурную болезнь. Благодаря всему этому трудно какой-нибудь девушке
остаться в полной безопасности от этих наглых, бесстыдных представителей
русского капитализма и столпов отечественного правительства. Хозяин имеет особых
работниц, которые стараются совращать молодых девушек. Из фабрики Павлов сделал
своего рода гарем. Глядя на хозяина и его подлых сыновей, и служащие позволяют
себе мерзости... На фабрике есть много станков, покрытых рогожами, потому что
хозяин боится нанимать на свою фабрику мужчин из страха перед бунтом, женщины же
на этих станках работать не могут по недостатку физической силы.
У всякой работницы и работника сердце ноет от тех порядков, которые творятся
на фабрике Павлова.
***
Из того же города сообщают: «У нас в городе недавно были обыски и аресты.
Арестовывают ночью, и теперь есть у жандармского ротмистра целое дело. Конечно,
в других городах арестовывают, потому что находят подпольные книжки и газеты, а
у нас арестуют потому, что находят цензурные книги, хотя бы одну или две. И вот
на допросе, чинимом жандармским ротмистром, он вопрошает:
— Это у тебя зачем?
— Читать купил.
— А почему купил именно эту, а не житие? Или: почему читаешь, а не спишь?
Или: не ведёшь такой бесстыдный образ жизни, как он, шуйский ротмистр. Он,
ротмистр, с фабрикантом Павловым напиваются до положения грязной свиньи и потом
в таком виде целуются публично и изливают свои взаимные чувства на глазах
удивлённой публики. Павлов же для таких случаев приказывает которой-нибудь свахе
(таких он имеет несколько на своей фабрике) приготовить такую-то девушку, и это
выполняется, точно речь шла о том, как зажарить цыплёнка. {145} И это делают представители русского капитала и
представители жандармской власти. И потому-то они стараются удержать в темноте
массу, поэтому нельзя рабочему пройти по городу с книгой подмышкой, чтобы
таковую не вырвал полицейский и не посмотрел: «Это что за книга?». Это особенно
бывает часто около читальни.
Раз представитель капитала Павлов, представитель правительства жандармский
ротмистр, представитель русских попов-инквизиторов Евлампий отправились с целью
напиться до осатанения за много вёрст от Шуи. И точно что напились (были,
конечно, с ними и другие), начали безобразить и чуть не подрались. Потом все
заставляли попа Евлампия задать в своём поповском балахоне плясового трепака, но
поп Евлампий, напившись, сделался строптив и ни за что не хотел идти плясать.
Тогда разгневанные друзья выгнали пьяного попа, и поп пешком уже вёрст девять
отмахал к Шуе (по какой-то случайности не завалился в канаву), и только на
десятой версте догнала много спустя посланная подвода и довезла строптивого попа
до дома.
***
Из 0рехово-Зуева нам пишут: 19 марта в местечке Никольском были
произведены аресты. Арестован Рудаков, выпущенный через несколько дней. Обыски
сделаны у Иванова ткача и Агафонова уборщика, по слухам также в доме Солнцева.
Причина такого набега, как нам удалось узнать, — деятельность шпиона-провокатора
Ниткина (настоящая фамилия Дмитриев). Этот Дмитриев был привезён новым
директором фабрики Викулы Морозова Скобелевым месяцев восемь тому назад. Он и
действует с ведома Скобелева, получая от него деньги за разные расходы.
Дмитриев-Ниткин живёт среди рабочих в казарме. Приметы: лет 33, рост выше
среднего, плотного телосложения, большой лоб, мутные серые глаза, говорит мягко,
при разговоре на лбу делаются морщины, смотрит исподлобья.
(«Искра» М 6, шояь 1901 г.) ***
{146}
Из Богородска (Московской губернии) нам пишет местный рабочий:
Есть, конечно, в России рабочие центры, как то: СПБ, Москва, Варшава, Киев,
Харьков, где рабочие живут культурной жизнью, где социализм находит себе пути,
улицы и проулки к жилищам рабочих; там есть много сознательных рабочих, и они
делают своё дело, которое становится всё твёрже и могучее. Там есть
интеллигенция, которая способствует этому движению... Но есть ещё в России такие
рабочие центры, куда прямые пути для социализма затруднены, где культурная жизнь
искусственно и усиленно задавливается. Там рабочие живут безо всяких культурных
потребностей, и для их развлечения достаточна одна водка, продаваемая хозяином
(теперь казённая монополька), да балалаечник или плясун из рабочих. Такие места
напоминают стоячую воду в небольшом озере, где вода цветёт и цвет садится на
дно, образуя вязкую грязь, которая втягивает в себя всё, что на неё попадёт. К
такой категории можно причислить и Глуховскую мануфактуру (около Богородска).
Тут культурной жизни почти нет и трудно ей на первых порах упрочиться, если
только удастся зародиться. Интеллигенция тут отсутствует (употребляю слово
«интеллигенция» условно: чиновники и т. п. с цензом образования не есть ещё
интеллигенция, это только глаженая, клеймёная публика — «благонадежный»),
рабочие культурные очень редки, а чуть который начинает чувствовать гнёт, то
выбывает; поднадзорный попасть сюда не может, а потому никакой литературы тут
нет, ни легальной, ни нелегальной. Если рабочий попадёт сюда из большого города
и вздумает вести пропаганду, то он скоро навлечёт на себя внимание
администрации, а она дела вершит скорее полевого суда: немедленно рассчитывает и
удаляет из хозяйских помещений. Мы хотим здесь описать эти самые хозяйские
помещения.
Наш фабрикант Захар Морозов содержит мужскую (холостую) артель — человек 800,
да такую же женскую; сверх того казармы для семейных. Артель (мужская) занимает
целую трёхэтажную казарму. Хотя помещение и отапливается паром и есть там и
вентиляция, но это мало может улучшить положение рабочих. Размещены рабочие
настолько тесно, что такой тесноты нельзя встретить ни в солдатской казарме, ни
в больнице, ни в тюрьме... Кровать {147} широкая в 2 аршина
— посередине вдоль разделена высокой доской, что служит границей для каждого; на
ней два тюфяка или два набитых мешка. В общем в каждом отделении помещается
больше ста человек. Расстояние между кроватями 1 аршин, около головы стоит
маленький стол, в нём два ящика, в которые владельцы кладут свою одежду, чай и
сахар. Сундуки имеются не у всех. Табуреток, стульев или скамеек нет совершенно,
и сидеть можно только на кровати. Если рабочие в сборе, то в каждом месте
образуется 4 головы и разговаривать нет возможности, чтобы не слышали соседи.
Помещение в казармах считается бесплатным, но за него производится вычет в
размере 2 копеек с заработанного рубля и 3 копеек — для семейных.
В безобразном состоянии находятся в казармах отхожие места, не отделённые от
жилых помещений капитальной стеной. В нижнем этаже, рядом с отхожим местом,
находится столовая. Так как чистку отхожих мест компания старается производить
возможно реже, то можно представить себе, как отражается на столовой такое
соседство.
В 1899 году рабочие потребовали себе более свободного помещения в
казармах. Компания согласилась и вывесила табель, в которой было показано
нормальное кубическое содержание воздуха на одного, человека, (одна сажень). Но
приведя это в порядок, компания вскоре. удалила человек 60 «недовольных» из
среды рабочих, и после того норма, указанная в табели, была опять нарушена.
Казармы для семейных состоят из небольших комнат, в которых помещается по 4—5
семейств, душ по 13—15. Казармы очень грязны, и компания заставляет рабочих
оклеивать комнаты обоями на свой счёт. В Александровской казарме, высотой с
обычный трёхэтажный дом, сделано пять этажей, из которых первый более чем
наполовину под землёй, а пятый представляет простой чердак. В июле этого года
компания принялась за ремонт этих казарм, причём работа производилась так умело,
что 13 июля ярус второго этажа рухнул, покрывая собой спящих внизу и увлекая
верхних. Мне пришлось видеть, как одна женщина с грудным ребёнком еле вылезла
из-под балагана; в другом месте вылезал мужчина, держась за {148} окровавленную голову. Дальше нельзя было смотреть: нужно
было торопиться на фабрику.
Харчи в казармах ужасно скверные, и человеку, пожившему в большом городе или
в семье на фабрике, противно даже идти на кухню; часто голодный продолжает
голодать, но воздерживается идти обедать. А между тем харчи обходятся очень
дорого... На всяком продукте Захар Морозов наживает 25—30%. Беря с нас по
2 копейки с рубля за помещение, Морозов наживает в год с одной мужской
артели 2 300 рублей, да на харчах в месяц с человека по 1 рублю,
всего в год 9600 рублей, итого с одной мужской артели он взимает круглым
счётом около 12 000 рублей. Когда в 1899 году мужская артель
вознегодовала на харчи, требуя их улучшения и чтобы припасы покупались не в
хозяйской лавке, то хозяин кричал рабочим: «Я нарушу жилое помещение, уходите
тогда на вольные квартиры».
Харчами заведуют двое старост; когда-то они были избраны на эту должность и
продолжают на этом основании оставаться старостами, хотя рабочие ими очень
недовольны. Когда недавно трое рабочих заявили неудовольствие против старост, то
все трое были тотчас же уволены.
***
Фабрично-рабочий-квартирный вопрос в Орехово-Зуеве. Кому неизвестно,
что в больших городах квартирный вопрос для рабочих — вопрос первостепенной
важности, и если где высока заработная плата, то там квартирный вопрос приносит
массу разных неприятностей, массу страданий, болезней, скученности и
непристойности жизни. Как на зло для рабочих, чем больше дорожают, квартиры, чем
дороже приходится платить за квадратный аршин комнаты,— тем устройство комнат
хуже. Отсутствуют всякие удобства для жизни рабочих, не берутся во внимание
никакие соображения, за исключением наибольшей наживы на каждом вершке площади
пола.
В нашем местечке население росло и продолжает расти очень быстро, но хороших
больших домов не было, нет и посейчас. Хотя каждый год новых домов строится
очень много, но они строятся очень спешно, на скорую руку, кое из чего и
кое-как. Всё держится на гвозде в гвоздике; {149} для
отопления 14—15 комнат ставится одна печь или маленькая трёхрублёвая железная
печка, от которой идут трубы (кровельного железа) по всей квартире; такая топка
и трубы не могут хорошо обогревать квартиры, и потому квартира суха только
летом; зимой же от сырости одежда портится и, намокши, не просыхает целыми
неделями, а у живущих болит голова... Комнаты отгораживаются одна от другой
живой перегородкой из самых тонких досок. Часто доски употребляются из больших
ломаных бочек или ящиков, и между досками можно просунуть палец в другую
комнату. Местами щели бывают более внушительные. Обои мало где можно встретить,
и если у какого рабочего к есть, то таковые он купил на свои деньги и сам же
оклеил комнату. Занавеси у окон более часты, что много скрашивает вид комнаты.
Попадаются, конечно, и более привлекательные комнаты, но это редко.
Благоустройство квартир много терпит от отсутствия свободного времени у хозяйки
комнаты, так как она работает на фабрике не меньше часов, чем и её муж.
Перегородки всюду делаются не до потолка, и, по выражению домовладельцев,
делается это в интересах гигиены: тогда, мол, воздух одинаков во всей квартире в
равномерно распределяется теплота по комнатам. Беря всё вышеуказанное, можно
утверждать, что во всём примерно Зуеве с несколькими тысячами населения нельзя
найти комнаты, в которой 2—3 человека разговаривающие не были бы слышны в
следующих комнатах. А это стесняет до невозможности какую-либо
организаторскую ила пропагандистскую деятельность. Собраться 5—6 человекам в
одной комнате нельзя благодаря устройству и размерам последних.
Квартиры год от года в ценах всё росли и росли, что вызывало большое
неудовольствие со стороны рабочих, и они постоянно обращались к хозяевам и
делали заявления о квартирных деньгах. Хозяева платят каждому рабочему и
работнице на одной фабрике 1 рубль 50 копеек, а на другой —
2 рубля в месяц квартирных денег. Хозяин платит по 2 рубля благодаря
настойчивости рабочих, которые этого добивались. Но если кто живёт на хозяйской
квартире, то тому, конечно, никаких квартирных денег не полагается. Если
рабочий, живущий на вольной квартире, получает 2 рубля, а жена —
1 рубль 50 копеек, то они много должны доплачивать, а если оба
работают у {150} хозяина, платящего 1 рубль
50 копеек, то и совсем мало, так как комнат за 3 рубля 50 копеек
мало, а больше от 4 рублей 50 копеек и дороже, вот почему всякий
мечтает о хозяйской квартире, тем более что частные квартиры отстоят на очень
большом расстоянии от фабрик.
Теперь перейдём к другой стороне квартирного вопроса. Именно, как на этот
вопрос посмотрели сами фабриканты? Как отражается их вмешательство? Каков образ
действий их в этом вопросе и как сами рабочие смотрят на квартиру в хозяйском
помещении? Известно, что издавна для хозяев наш брат рабочий представлялся
чем-то вроде полуживотного (как оно обстоит и сейчас у подрядчиков строительных
работ — плотников, каменщиков, мостовщиков, извозчиков; на кирпичных заводах, на
железных дорогах у землекопов и т. п.), и потому квартира от хозяина давалась
очень скверная, тесная и грязная. В Орехове есть ещё старые казармы, и они
против новых кажутся очень жалкими, живётся в них скверно, но всё же их ещё не
ломают, а стараются заполнять холостыми артелями; это самые худшие казармы; они
наполовину из кирпича, наполовину из дерева. Но теперь есть очень много казарм,
выстроенных по последнему слову технической и инженерной науки. Конечно,
выстраивая такие казармы, хозяин руководствовался личными интересами. Ведь
понятно для каждого, что, не возводи он казарм, цена за квартиры повысилась бы
раза в два, и рабочие тратили бы массу времени на ходьбу (во всех казармах живёт
тысяч до 20, если не больше). А раз цены повысились на квартиры, то и выдачу
квартирных денег пришлось бы увеличить. И, взявши наименьшую цифру рабочих в
12—13 тысяч и выдавая им по 2 рубля, это составит около 25 тысяч
в неделю, а в год выйдет очень внушительная сумма, которую хозяин должен был бы
выкидывать. Между тем, выстроивши казармы, хозяин надолго освобождается от новых
расходов. Построены же казармы на сотни лет — так внушительно и солидно.
Вот как обстоит дело в образцовых казармах. Можно о них сказать, что они
очень хороши для фабрично-рабочего люда (мы, конечно, знаем, что мастеровой с
юга или Петербурга нашёл бы не только неудобными, но и очень скверными и именно
«казармами»); они снабжены водопроводом, хорошей водой; комнаты и коридоры
оштукатурены и выкрашены в белый цвет, окно в комнате широкое {151} и больше сажени в вышину, хорошо проведено паровое
отопление как в коридорах, так и в комнатах, всегда есть достаточно готового
кипятку, хорошая деревянная кровать и т. п. Значит, в гигиеническом отношении
всё обставлено как будто хорошо и позаботились об удовлетворении некоторых
потребностей фабричного люда. Но в бочку мёда влили не одну ложку дегтя.
Во-первых, комната по размерам очень порядочная (около 3 саженей в длину, около
5 аршин в ширину и почти 2 сажени в вышину), но она служит не для одного
семейства, а для трёх. Размещаются они следующим образом: два семейства по бокам
комнаты по кроватям и третье семейство на полатях. Полати, правда, большие, и
человек может стоять на них, не ударяясь в потолок, и потому полати представляют
воздушную комнату. Внизу оба семейства располагаются вдоль, каждое в своей
половине комнаты; и так размещены не тысяча, а больше десятка тысяч. Такие
условия порождают массу неудобств и неприятностей, и соседи в одной комнате
часто вздорят между собой и даже дерутся. Случается, что какой-нибудь член
семейства бывает нечист на руку (крадёт), что слишком неприятно для совместного
сожительства. Во-вторых, зоркое око хозяйских шпионов и полицейских (открытых и
тайных; тут же живут и шпионы от жандармов) наблюдает за рабочими в казармах, а
администрация старается предписывать рабочим, в какие часы и что делать. Так,
придя с работы, всякий должен ложиться спать, и за этим наблюдают. В-третьих,
рабочим строго воспрещается собираться кучками в коридорах, проходах, комнатах и
даже в отхожем месте и рассуждать о чём-либо, хотя бы даже собравшиеся и
говорили вполголоса. И если нельзя придраться к ним на основании общественной
тишины, то придерутся на основании общественного порядка. В-четвёртых, никто не
имеет права читать вслух ни газету, ни книжку, и даже нельзя читать вслух у себя
в комнате и безграмотному соседу. В-пятых, воспрещается какая-либо игра; даже
живущие в одной комнате должны спрашивать нечто вроде разрешения у соседа,
чтобы, например, курить табак. Воспрещается по вечерам сходиться и
останавливаться вне казармы и внутри её.
И всё же, несмотря на такого рода притеснения и полицейские строгости, люди
положительно прикрепощены к этим помещениям. И это понятно — ведь вольные {152} квартиры много, много хуже, и приходится ещё доплачивать.
Понятно, что живущий на вольной квартире постоянно мечтает о хозяйской и
постоянно завидует уже там живущим... Возводя новые казармы, хозяева подорвали
всякую инициативу (начинанья) у вольных хозяев в Зуеве, никто из них не
отваживается на постройку нового каменного здания, опасаясь, что хозяева
выстроят ещё одну-две казармы, куда перейдёт на жительство больше тысячи в
каждую, и потому его дом будет пустовать. Этот страх заставляет их отказаться
совсем от постройки, или же они строят дома такого сорта, как было выше описано.
Орехово-Зуевцы.
(«Искра» № 8,10 сентября 1901 г.)
***
Орехово-Зуево. Нам пишут: Ввиду того, что за последнее время «Искра»
широко распространяется в Орехово-Зуеве и нам нет возможности предупредить всех
товарищей словесно, мы просим напечатать, чтобы остерегались следующих лиц: М.
Агапов (подмастерье), небольшого роста, рябой, толстые губы, на лице несколько
поросших бородавок, говорит скороговоркой и при разговорах слюнявится, лет 35,
русый, — старообрядческий миссионер, служит у жандармов, имеет часто
собеседования в Орехове с православным миссионером Николаевым; И. С. Сапов —
служит в хозяйской харчевой лавке в мясном отделе сторожем при дверях, чёрный,
взгляд свирепый, проницательный, говорит басом, отрывисто, рост средний; В. П.
Мазурин — постоянно ораторствует в отхожем месте на фабрике о социализме и
притеснениях; что выведает, тотчас же сообщает; роста ниже среднего, говорит в
нос, тщедушный. Предупреждаем владимирцев-на-Клязьме, что Дмитрий Ниткин (см.
номер 6 «Искры») теперь уже служит урядником во Владимире. «Искра» у нас
читается нарасхват, и сколько доставлено, вся находится в ходу. Благодаря ей
чувствуется сильный подъём у рабочих. Особенно много толкуют по поводу статьи по
крестьянскому вопросу в № 3, так что требуют доставить этот номер. А на частном
собрании рабочие выразили желание, чтобы «Искра» напечатала ещё несколько статей
по этому вопросу.
{153}
Много суждений по поводу столкновений рабочий с полицией и войском в СПБ. Эти
столкновения являются только началом общего такого движения, так что ореховские
рабочие не заблуждаются, если говорят, что тут такое столкновение в будущем
неизбежно, но что оно будет более жестоким и что идти против вооружённой силы с
пустыми руками не следует, но «дубина и штык — одно и то же».
***
Иваново-Вознесенск. В настоящее время у нас настало гонение на всех
рабочих, которые, будучи прилично одетыми, выглядят не совсем глупыми. Каждый
фабрикант приказал секретно своим заведующим, чтобы они принимали рабочих,
только осмотрев их с головы до ног. И если который хорошо одет, то гнать его в
шею с фабрики. Поневоле приходится одеваться в «котовскую» (босяцкую) одежду. Но
если плохо принимают мужчин, то охотно раскрывают фабрику перед женщинами, и это
понятно: женщина пока ещё всё терпит молча. В Богородске Захар Морозов отдаёт
особое предпочтение рязанским как более тёмным.
Надзор над рабочими усиливается. На одной фабрике недавно у входа сторожем
обыскан пришедший в казарму рабочий, желавший собрать кое-какие сведения. По
какому это праву? Ивановский городской голова Дербенёв на своей фабрике изнуряет
рабочих сверхурочными работами, длящимися иногда всю ночь. На фабрике Бурылина
практикуется в широких размерах обсчитывание рабочих при выдаче заработка.
***
Богородск. Глуховская Мануфактура в Богородске, занимающая 13 тысяч
рабочих и являющаяся одним из самых крупных промышленных заведений в России,
слывёт в официальном мире «благоустроенной» мануфактурой, образцом похвальной
хозяйской заботливости о рабочих. Корреспонденция в № 8 познакомила читателя с
одной стороной действительной жизни богородских рабочих — с квартирными
условиями. Здесь мы расскажем, руководствуясь присланным нам от местных
товарищей сообщением, об условиях труда в Глуховской мануфактуре.
{154}
Санитарные условия безобразны, особенно в красильной мастерской, где и работа
не безопасна вследствие неряшливой постройки здания и недостаточного ремонта:
потолок начал проваливаться, доски пола не прибиты гвоздями и не отстроганы;
щели между досками по вершку (сделано нарочно для стока краски). Благодаря этому
стоку из-под пола идут удушливые испарения; вентиляция недостаточна; на стенах и
потолке плесень. «Всюду стоит пыль непроходимая»,— пишет корреспондент.
Всё это не где-нибудь в глуши, а в нескольких десятках вёрст от Москвы, в
Московской губернии, интересы которой правительство близко принимает к сердцу,
держа её на положении «усиленной охраны». Как видно, «охраняя» губернию, да ещё
усиленно, позабыли об охране жизни и здоровья рабочих.
Работают на Глуховской мануфактуре тремя сменами, так что каждый рабочий
работает один день 12 часов, а следующий — 6 часов. Заработок ткачей равен 14—18
рублям в месяц, при сильных штрафах, гнилой основе и утке (благодаря чему, как
пишет наш корреспондент, зубы рабочего начинают гнить через месяц). Заработок
других рабочих не поднимается выше 28—30 рублей (накатчики). Красильщики
получают 45—55 копеек в день.
B зимнее время (с 1 октября) заработок ткачей сокращается до 12—14 рублей
благодаря тому, что идёт самый скверный хлопок (кокандский). «В это время частые
штрафы, доходящие до 2 рублей». Также часты расчёты до срока найма и всякие
прижимки. «За опоздание на 5 минут штрафуют до 20 копеек, а сами машину пускают
на полчаса раньше и останавливают минут на 20 позднее».
Но если миллионер Захар Морозов не стесняется прибегать к воровским приёмам
выжимания прибыли из рабочих, то он же и обращается с рабочими, как с
крепостными. «У нас хозяин страшно любит стегать плёткой и до сих пор не бросает
своего варварского обычая». Боимся, что при такой «страшной любви» г-н Захар
Морозов не бросит своего «обычая» прежде, чем его самого не отстегают рабочие,
и, признаться, удивляемся, как это до сих пор последние не применили этого
средства, которым в былое время иногда крепостные заставляли своего
мучителя-помещика отказаться от предмета своей «страшной любви». 18 июля Морозов
встретил четырёх возвращающихся из города рабочих; из кармана у одного торчала
{155} «монополька». Рабочие направились в купальню. «Но тут
налетел, как ястреб, сам опричник Морозов и давай стегать плёткой кого ни
попало, говоря: «что же вы заставляете хозяина бегать за собой? Все деньги
проживаете в городе, а не у меня», а затем отправил их в сторожку». Итак, у г-на
Захара Морозова рабочие обязаны «проживать» всё заработанное в его же
лавках и за нарушение этой обязанности могут попасть под арест. Знает ли об этом
фабричная инспекция? Или она дожидается, чтобы глуховские рабочие при случае
разнесли морозовские лавки? Не будет удивительно, если такие «патриархальные»
порядки приведут к такому же патриархальному результату, как это бывало уже во
многих местах.
Продолжим, однако, описание кнутобойства г-на Морозова. «Сам Морозов часто
ходит в фабрике между станками с засунутой за голенищем плёткой и, если увидит,
что ткач распускает рвань со шпули, то с остервенением наносит ему удар плёткой,
штрафует и прогоняет с работы». Один ткач, которого Морозов в 1899 г. избил
плёткой, оказался не дурак и подал в суд. Дело ползало в трёх судах, и, наконец,
Морозов, тяжело вздыхая, сказал: «Я бы лучше слил себе золотого ткача, чем мне
стоили эти суды». Плети в ходу также среди десяти «объездчиков», содержимых
Морозовым. Повидимому, беспорядки в Екатеринославе и в имении графа Рибопьера,
вызванные неистовствами подобных «объездчиков», не заставили задуматься
московских тузов, что такой способ «поддержания порядка» представляет оружие
обоюдоострое.
В фабричной больнице «живая умора, а не поправка». Ещё бы! Кормят больных
щами из кислой капусты, да ещё прокислыми!
О рабочих корреспондент пишет: «Они не пугливы, особенно молодёжь, но беда в
том, что всякий протестует в одиночку и требует расчёта, которого ему иногда не
вы дают».
«Есть у нас библиотеки. И, конечно, часто бывает желание прочесть что-нибудь
поинтереснее. Отправится кто-нибудь этак за книжкой, смотришь — тащит оттуда
какую-нибудь сказку, и нельзя сказать, что он рад ей. Даже Достоевского нет, а о
каких-либо Шелгуновых и Писаревых забудь и думать. Один из рабочих как-то
спросил Дарвина, но на его вопрос только разинули рот. Преимущественно дают
книжки, которые старательно {156} отупляют мысли рабочего,
и без того забитого, а книжки религиозно-нравственного содержания молодёжь
читать не будет, она точно чутьём слышит их отупляющее и вредное направление...
Тайных библиотек пока нет, а потому» нет никакой возможности удовлетворить
проявляющееся стремление к знанию».
(«Искра» № 9, октябрь 1901 г.)
Где же тута справедливость? —
Обижаете вы нас,
Неба грозная немилость,
Посетит за это вас...
(Фабричное стихотворение) Трудно нашему брату рабочему живётся на фабриках и заводах; много приходится
переносить разных выжиманий, выколачиваний, угроз; разного рода притеснения
процветают всюду, всюду прижимки и штрафы, а заработки плохи, и мало ли что ещё
делается против нас! И хотя это ведётся на фабриках с начала их основания, {157} но привыкнуть к этому мы не можем и ведём против упомянутых
зол борьбу и в этой борьбе надеемся останься победителями. Хорошо прижимают нас
капиталисты-хозяева, но хуже, ещё преследует правительства. А разные
длинноволосые попы стараются втолковать нам рабскую покорность и фарисейски
упрекают в пьянстве и тому подобных безнравственностях. Конечно, мы ко всему
этому давно привыкли и знаем всему этому цену: «собака лает» так, по крайности,
говорит русская пословица. Но всё же горько становится, когда лучшие в России
журналы ополчаются против нас же, рабочих. «Где же тут справедливость?» Это как
будто значит, не только капиталисты и правительство, но и всякие
либеральные органы, мак «Русское богатство», по крайней мере г-н Дадонов, не
наши доброжелатели? Не утверждаем, но знак вопроса поставить имеем основание. Мы
не забываем, конечно, а твёрдо помним, что «освобождение рабочих должно быть
делом самих рабочих» (Ман. Коммун. партии).
Итак, «Русское богатство» поместило статью г-на Дадонова: «Русский Манчестер»
(декабрь 1900 г.), в которой г-н Дадонов обвиняет нас в пьянстве, равнодушии к
званию и т.д. Обвинения, можно, сказать, очень существенные, и мы никак не могли
их оставить без ответа. Конечно, если бы это было несколько лег тому назад, то
тогда мы не имели бы возможности отвечать, ибо то же «Русское богатство» не
приняло бы возражения от рабочего, а тем более в настоящем его изложении. Но
времена те, пожалуй, совсем миновали, и мы постараемся несколько отучить тыканье
в нас пальцем.
Мне припоминается теперь один ответ учительницы ученикам в вечерней
воскресной школе. Как-то речь коснулась слова «либерал», и вот, объясняя; это
слово, учительница старалась поднять на известную высоту личность либерала и
показать её с хорошей стороны. Тут были и {158}
просвещение, и гуманность, и законность, и полная свобода, и много других
хороших качеств, которыми обладает, личность «либерала». Слушая в числе прочих
учеников это перечисление, я тотчас же вспомнил из газет, что за границей
либералы очень часто (может всегда?) действуют против социалистов. И вот после
этого я долго не мог хорошо переварить этого: все хорошие качества, с одной
стороны, противник для нас, стремящихся к счастью всех, — с другой. Но это
мимоходом.
Постараемся ответить г-ну Дадонову в порядке упомянутых обвинений и
оправдать, насколько возможно, наши поступки.
Г-н Дадонов говорит, что «главную статью расхода составляют одежда и водка.
На то и другое в отдельности тратится от 30 до 70 рублей в год», и это
расход «рабочих с годовым заработком от 100 до 200 рублей в год». Это
значит, что рабочий, получающий 100 рублей в год, тратит на водку и одежду
60 рублей, т. е. весь год рабочий должен за 3 рубля 33 копейки в
месяц иметь харчи, баранки, чай, квартиру, табак, баню, стирку и ещё послать в
деревню. Ой, ой, какую чепуху говорит г-н Дадонов!
Если рабочий тратит на водку 30 рублей в год, то на эти деньги он может
купить в месяц пять бутылок водки. Выходит, г-н Дадонов, что рабочий, питающийся
хлебом, картофелем, гречневой кашей, выпивает в сутки меньше одной сотой ведра.
И за это вы осмеливаетесь нам кликнуть: «пьяницы!» Не слишком ли через край
хватили?! Допустить, что рабочий прогуляет 1 рубль в воскресенье, невозможно,
это было бы 52 рубля в год, да ведь ещё есть, кроме воскресных дней,
годовые праздники. Правда, на годовые праздники покупается водка в большом
количестве, но сюда-то и уходит большая часть суммы, расходуемой на водку, и
если в пасху или рождество рабочий позволит, себе выпить лишнее, то отсюда
делать заключение, что он пьяница, очень недальновидно. Нужно помнить и то, что
рабочий, питающийся чаем, хлебом и картофелем, бывает слаб на ногах от одной
рюмки, особенно если он мало работает здоровой физической работы...
Г-н Дадонов, утверждающий, что пьянство введено в систему, сделал такое
заключение на основании показаний общества трезвости. Конечно, мы, рабочие,
отлично знаем, что из себя представляют многие общества трезвости и что они
будут представлять благодаря их официальному {159}
положению при введении новой системы, т. е., когда царь-батюшка захотел быть
кабатчиком, а министр Витте целовальником; достаточно упомянуть исключение графа
Толстого из почётных членов московского общества трезвости. Пусть простят мне
г-да культурники,— но не нужно быть пророком, чтобы утверждать, что не им
суждено быть руководителями названных обществ, а займут эти места разные
чиновники и батюшки. «Искра» надеется вскоре познакомить читателей с одним
трезвенным обществом, которое усиленно искореняет пьянство... Совершенно верно,
г-н Дадонов, «могарычи» существуют, и существуют не только в
Иваново-Вознесенске, но и в Петербурге, Москве, на юге и почти по всей России. И
это есть зло, с которым уже ведётся борьба каждым культурным рабочим, но мы не
может согласиться, что это является «одним из страшных зол фабричной жизни»,
хотя бы потому, что если поступивший ткач приглашает человек 10—15 и покупает им
1/4 ведра водки, то смешно думать, якобы он этим заставляет их пьянствовать, а
не просто выпить после работы и поздравить его с поступлением. И ведь это
происходит не ежедневно на фабрике, и притом на такие «могарычи» удаётся попасть
1—3 раза в год. И уж поистине «не так страшен чорт, как его малюют» общества
трезвости и г-н Дадонов. Мы же позволим задать вопрос: почему у нас упомянутые
«могарычи» есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему» или
«являются одним из страшных зол фабричной жизни», а у таких культурных
личностей, как даже у литераторов, разные юбилеи, обеды, чествования, где
выпивается вина и водки уже во всяком случае не меньше на человека, чем на любых
«могарычах», почему, спрашиваем, это не есть «пьянство, до некоторой степени
введённое в систему», а, г-н Дадонов? Почему, когда их высочество «выпил бокал
за здравие», дальше «провозгласил тост», «ответил здравицей», дальше «выпил за
князя» и так без конца, пока от разных «здравиц, бокалов, тостов» не напьются до
осатанения, почему, г-н Дадонов, это не есть «пьянство, до некоторой степени
введённое в систему» и не есть «одно из самых страшных зол жизни» высших,
образованных классов? Вот, например, министр Сипягин, объезжая это лето, всюду
принимал предлагаемые обеды и был пьян хуже сапожника (извиняюсь перед
товарищами за такую фразу), а что это верно, то рабочие видели, как он с
{160}морозовского обеда выходил «еле можахом», а
приезжал-то по простому выражению рабских, «за брюками». И разве, г-н Дадонов,
всё вышесказанное не развивает «поголовное массовое пьянство»? Ещё раз: почему
наши «могарычи» есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему», а всё
вышесказанное остальное нет? Мы знаем, почему и не будем умалчивать об этом.
Разница, г-н Дадонов, вся в том, что вы литераторы, а тем паче разные
превосходительства, высочества и тому подобные трезвенники пьёте в хороших
ресторанах, клубах, квартирах, дворах, а мы, бедный народ, на задворках, за
подворотней буквально и в лучшем случае летом на тощей травке с такого же тощего
качества закуской и если выпьем, то особой своей не можем хвалиться, мы тогда
бледны, слабы. А видали ли вы пьяного г-на Сипягина? Он трезвый выглядит точно
большой медный куб, а пьяный еще краснее становится (кстати, советуем ему пить
меньше, дабы не сгореть от спирта подобно бывшему екатеринославскому губернатору
генералу Киллеру). Но если мы пьём на задворках, то это не даёт вам права
называть нас пьяницами, а других трезвенниками! Когда читаешь газеты, то видишь
одно и то же: в каждом номере пестрит здравица, бокал, тост и т. п. Всю
жизнь люди проводят с поднятым бокалом в руке, г-да же литераторы стараются
умиляться, описывая благородные выпивки. Эх, г-да литераторы, что может быть
позорнее этого?! Поневоле напрашивается вопрос: где же общества трезвости? Где
г-н Дадонов? Где его наблюдательность? И почему он не скажет: «и почти ничего
не развила из себя» образованность? Чего же они в самом деле молчат? Очень
просто, они боятся, чтобы им кузькину мать не показали, а потому молчат про
указанное пьянство. Другое дело — рабочие; про них всё можно говорить: рабочий
связан, а потому, почему же не подойти к нему и не плюнуть ему в лицо? И вот
ополчаются разные общества трезвости, а за ними и г-да Дадоновы.
С пьянством покончили, но с г-ном Дадоновым ещё нет. Относительно того, что
приходиться встречать у некоторых рабочих триковые штаны, то в этом мы ничего,
кроме хорошего, видеть не можем. И в самом деле, что тут удивительного, если,
живя в городе, рабочий износит то, в чём ходил в деревне, и теперь покупает
городскую одежду? Неужели г-н Дадонов признаёт городской костюм {161} ненужным для крестьян и оставит навсегда деревенский костюм
для народа? Если да, то это значит за одно признать желательным оставление в
деревнях чёрных изб. Я не думаю в данном случае возводить на г-на Дадонова
обвинение в осмеивании костюма, а подчеркнул то, что желательнее из двух
предположений. Очень давно уважаемый нами Плеханов говорил про рабочих («Русский
рабочий в революционном движении»), что они часто выгодно отличаются в смысле
костюма от интеллигенции (к сожалению, сейчас не имею под руками названной книги
и не могу процитировать слова уважаемого автора). Во всяком случае лучше пусть
будет излишняя щеголеватость в костюме, нежели небрежность.
Квартирный вопрос, правда, поставлен у нас слишком скверно, чтобы его хвалить
или защищать не только в разбираемом нами городе, но и во всей России. И
рабочие, живущие в таких тесных квартирах, настолько свыклись с ними, что
вызывают чувство возмущения у сколько-нибудь культурных рабочих. Свыкшись, они
признают лучшим для себя жить в них, нежели поселиться вдвоём или втроём в одной
комнате. Обыкновенно говорят они в таких случаях, что в артели веселее, а там
сиди в комнате вдвоём или втроём, как в тюрьме. К этому десятками лет приучало и
вырастило житьё в таких условиях, а пришедшие из деревни ни о чём не думают в
первое время, кроме несчастной высылки 2—3 рублей в деревню, и потому готовы ещё
ухудшить эти условия. Выросши в таких условиях, масса не может переносить
одиночества, смотрит на это подчас, как на наказание. Психология та же, какую
описал г-н Мельшин в своём замечательном труде: «Из мира отверженных», где
культурный человек не переносит жизни в общих камерах и считает это пыткой, где
избавлением ему служит одиночная камера. Но там же для человека совершенно
тёмного (некультурного) та же одиночная камера будет служить обратно наказанием,
тогда как общая удовлетворит его. В Иваново-Вознесенске всякий сколько-нибудь
культурный рабочий старается жить отдельно, и если многие живут в артелях, то
также многие живут по отдельным комнатам или два семейства в комнате, а потому
наблюдательный г-н Дадонов мог бы встретить там и кровати в комнатах.
Поистине наблюдательность г-на Дадонова удивительная. Он не то, что
крыловский герой — слона не приметил, {162} о нет! Г-н
Дадонов, как приехал в Иваново-Вознесенск к фабрикам, так сразу и заметил
котловину, да ещё какую! в которой все фабрики поместились: вот какая
наблюдательность г-на Дадонова! Обернувшись кругом, он очень многое подметил и
потому стал понемногу повёртываться к котловине, подобно крыльям ветряной
мельницы: сверху вниз, сверху вниз, снизу вверх, снизу вверх. Тут были подмечены
и фабриканты, и администрация, и городское хозяйство, и т. п., но мы об этих
подмечаниях умолчим и скажем только относительно подмечания нас, рабочих. И вот,
повернувшись немного, видит, что «пьянство до некоторой степени введено в
систему», ещё повернувшись, видит: укладываются спать, да так плотно один к
другому, словно астраханские селёдки в бочке, и стараются, чтобы голова одного
приходилась у ног другого; ещё повернувшись немного, он увидал рабочих (всех), у
которых нет ни малейшего желания что-нибудь почитать и никакого стремления к
знанию; ещё повернувшись, смотрит: «распивают штоф водки»; ещё: «полицейский
надзиратель разбирал какое-то дело», и от дела остался изодранный кафтан; ещё
повернувшись, видит пустой театр, хоровод, слоняющуюся публику, и нигде ни одной
книги, и потом ещё чуть повернулся, смотрит: железная дорога, а там вдалеке и
«Русское богатство». И хотя наблюдательность была очень зорка, но одного г-н
Дадонов не подметил и не удостоил начертать на страницах «Русского богатства». И
признаёмся, картина вышла неполная, а ведь всего-то недоставало нескольких слов,
которых мы вправе были ожидать от наблюдательного г-на Дадонова. И правда, что
бы ему сказать: «И несомненно, что рабочие Иваново-Вознесенска очень ленивы». А,
впрочем, может г-н Дадонов это восполнит, а пока вернёмся к главному обвинению,
что мы «глубоко равнодушны к знанию».
Г-н Дадонов уже получил ответ на свою статью от г-на Шестернина, который
указал наблюдательному г-ну Дадонову, что он взял ошибочную цифру, т. ё. «вместо
порося взял вола», мы же скажем, что с ним бывают ошибки и в обратном смысле.
Так, говоря о числе читающих, он заявляет: «Группа читателей в возрасте от 20 до
30 лет составляет 23%». Откуда почерпнута эта цифра, мы не знаем, да это и не
так важно для нас, Но вот что видно из отчёта общества трезвости, который
отражает как раз то время, которое описывает г-н Дадонов.
{163}
По возрасту распределение читателей показано в следующей таблице:
Итак, оказывается, не 23%, а 27%. А как много читателей не рабочих, видно из
следующей таблицы:
Фабричных рабочих…….. 1 155
Ремесленников……………. 108
Торговцев ………………….. 27
Разных ………………………95
Без занятий …………………81
Итого ……………………..1 466 читателей.
Это тоже показывает хорошо, кто читает книги, а если ещё сопоставим число
читателей, с одной стороны, и число томов книг — с другой, то ясно, почему
многие читатели не постоянны.
Число читателей ………...1 466
Число книг ………........... 1 496
Выдано книг за 14 мес. . . 14 211 (первое место — Гоголь).
Выходит, что рабочие, правда, читают очень скверные книги, но это происходит
не потому, что у них такой вкус, а за неимением хороших книг. Если бы г-н
Дадонов вздумал порицать крестьян за то, что они едят лебеду, а не, хлеб, то это
было бы вполне аналогичное обвинение тому, которое он предъявляет к
иваново-вознесенским рабочим. Г-н Дадонов, упрекающий рабочих в равнодушии к
знанию, что Вы сделали, чтобы предотвратить у них такое равнодушие?
Ничего! Упрекающий рабочих, что они смешивают земство с урядником, что
Вы написали хорошего о земстве? Ничего! Когда рабочий получал
образование в сельской, в церковно-приходской школе, то что хорошего узнал он
там о земстве? Ничего! Если будет написана популярная брошюра о земстве
и его деятельности, будет допущена такая брошюра в библиотеку {164} общества трезвости или фабричную? Нет! А будет ли
возможность от этого получить её рабочему? Нет! Хорошие книги,
написанные популярными авторами, из которых интеллигенция черпает знания, такие
книги может ли получить рабочий библиотеках, о которых вы пишете? Нет!
Книги, которые получает рабочий из библиотек, дают ли ему настоящие знания?
Нет! Могут ли интересовать получаемые из упомянутых пяти библиотек
книги мало-мальски развитого рабочего? Нет! Доступна ли для рабочих
лучшая описанная вами библиотека (публичная)? Нет! И так без конца;
нет, нет, нет, ничего, ничего, ничего, а потому делать заключение на нет и
ничего всё равно, что считать от десяти книзу и получится ничего. Это самое г-н
Дадонов и доказал. И стоило ли из-за такой чепухи огород городить? Разве не
сделано всё возможное, чтобы отохотить рабочих от библиотеки, в которой бывает
мастер, конторщик и кое-кто другой? Разве у нас культурность и
самостоятельность, а тем более возвышение личного достоинства, не служит ещё во
вред рабочему? Разве наши фабричные библиотеки редко служат местом тайного
наблюдения за благонадёжностью рабочих? А относительно публичной библиотеки есть
основание утверждать, что она-то уж в этом отношении не может быть названа
безвинной овечкой. Разве в библиотеках для народа не сделано всё, дабы по
возможности извратить натуру человека из более порядочной в мерзкую? Разве г-да
Комаровы мало потрудились и трудятся на этом поприще? Ведь они-то туда,
несомненно, допущены. А допущено ли туда «Русское богатство»? Сомневаемся. Но
главная причина, почему рабочие плохо идут в библиотеки, заключается отчасти в
плохом подборе, отчасти в ужасной бедности книгами последних, а потому в
трудности получить намеченную книгу даже из такого плохого подбора; и если часто
читатели выбывают, то виной тому служит нередко сама библиотека. Мы уже указали
на цифры упомянутого отчёта: всех читателей 1 466 человек, а томов всего 1 496
или 1 074 названия, что это значит? А то, что если бы все подписчики взяли по
одной книге, то в читальне осталось бы не больше 2% книг или читальня
обанкротилась бы. И вот поэтому желающему почитать приходится довольствоваться
всякой гадостью. Вот что ещё говорит упомянутый отчёт: религиозно-нравственных
книг 20%, а берут их только 10%, тогда как по словесности {165} книг 60%, а берут 66%. Это как нельзя лучше подчёркивает, в
чём чувствуется недостаток. Бросается в глаза то, что г-н Дадонов не желает
считать читателями людей, которые походят некоторое время и оставят библиотеку
за невозможностью получить там книгу. — Дальше. То утверждение г-на Дадонова,
что ни одной книги на дому нет в целом районе с 20 тысячами жителей, — явная и
безграничная ложь, чтобы не сказать больше. Рабочие постоянно имеют свои тайные
библиотеки, где мало книг, но зато все книги на подбор и постоянно читаются. И
вот этот-то настоящий читатель редко когда пойдёт в упомянутые
библиотеки, во-первых, рискуя выделиться, во-вторых, не имея надежды получить
там что-нибудь хорошее. Очень часто и в Иваново-Вознесенске рабочий развитый
принуждён носить личину глупого человека. Г-н Дадонов не знает и не
поинтересовался узнать, как оберегается вся Владимирская губерния от знания, а
тем более от социализма, — не страшитесь, г-н Дадонов, этого слова! Было
несколько лиц, желавших открыть в Иваново-Вознесенске книжную торговлю, но они
постоянно получали отказ в разрешении. Не отказывали ли им из опасения, что не
будет покупателей? В Орехово-Зуеве есть книжная торговля, но там строго
воспрещается продавать хорошие популярные книги, и желающие купить наталкиваются
на «нет» и «ничего». Там же рабочие постоянно жалуются на неудачи в библиотеке —
это жалобы общие. В Шуе (см. корреспонденцию в № 6 «Искры») один из рабочих,
выйдя из библиотеки и пройдя несколько саженей, был остановлен городовым,
который справился: «что за книга» и потом, убедившись сам, какая и откуда
выдана, возвратил обратно рабочему. Не будь на этой книге штемпеля библиотеки,
едва ли бы рабочий так скоро получил книгу обратно. Можно быть уверенным, что
упомянутый городовой имел инструкции относительно наблюдения. А жандармский
ротмистр на чинимом им допросе сурово спрашивает рабочего: почему он взял читать
именно такую книгу, а не религиозную, какое-нибудь житие? И диво бы ещё книга
была какая-нибудь особая, а то по каталогу, одобренному министерством! Всё это,
конечно, рабочие потом узнают, и слабые духом трепещут потом перед входом в
библиотеку: желание получить книгу, с одной стороны, и страх — с другой. А
знаете ли, г-н Дадонов, каково бывает положение рабочего, когда против него
{166} действуют тёмные силы? Возьмём опять Орехово. Там
власти арестовали сочинения Решётникова, как воспрещённую книгу, и потом на
основании этого уничтожают такие книги. Как говорили, там же в библиотеке нельзя
рабочему добиться порядочной книги: говорят — занята, а конторщики держат
месяцами по два — по три тома на квартирах; и вообще часто замечают: если
рабочий спрашивает порядочную книгу в фабричной библиотеке, то почти постоянно
получает отказ — книга занята, хотя на самом деле она спокойно лежит на полке.
Как заботятся о развитии у рабочих чтения, видно из того, что существует
параграф, карающий за чтение вслух в казарме, хотя бы читали вслух для
безграмотного рабочего. Пусть не сердится на меня г-н Дадонов, что я зайду за
границу Владимирской губернии — в Богородск. Рабочих на фабрике З. Морозова
кормят самой отборной умственной гадостью, и потому рабочим незачем ходить в
библиотеку. Если там Достоевского нет, то что же можно получить порядочного для
удовлетворения умственной потребности, кроме лубочных изданий и поповских глупых
наставлений и одурачиваний?
Таковы в общих чертах способы и средства удовлетворения умственных
потребностей рабочих. Из вышеизложенного видно, что как будто дают возможность
читать и стремятся удовлетворить умственные потребности; признают официально эту
необходимость удовлетворения правительство, фабриканты и разные общества, с
одной стороны. Но и не как будто, а на самом деле ревут, вопрошают,
предписывают: как смеешь читать безграмотному? Как ты выдумал читать в казарме
вслух? Выгнать его на вольную квартиру!.. Почему читаешь не религиозные, а
такие? — Нет такой книги, занята. Кто такой, где работаешь? — это с другой
стороны. И вот при таких условиях, когда слышишь, что изрекают: «глубоко
равнодушны к знанию», то неужели для нас человек, произносящий такой приговор,
не будет казаться возмутительным? Г-н Дадонов говорит: «Во всех названных
читальнях (пяти) находится около 8 000 томов и ими пользуется около 3 000
читателей». Есть основание не верить г-ну Дадонову, так как в одной читальне
общества трезвости находится, как мы видели, 1 466 человек, почему же при
одинаковом количестве книг в каждой (конечно, не абсолютно) не предположить, что
и читателей почти {167} столько же во всех прочих
библиотеках. Если г-н Дадонов тут сказал неправду, то пусть это останется на его
совести. Для нас вполне ясно и доказательно, что ни в одной библиотеке хорошие
книги не залёживаются, а если разная ерунда и остаётся «для выбора», то мы не
имеем основания печалиться, что её не читают. Читать религиозно-нравственные
книги может тот, кто желает поглупеть, мы же искренно этого не желаем. Остаётся
ещё сказать кое-что о публичной библиотеке, где г-н Дадонов видел, что рабочие
«не считают нужным уделить... 20 коп. в месяц из своего 15—20-рублёвого
заработка». Пусть простит мне читатель, что я не признал г-на Дадонова
крыловским героем, который слона-то и не приметил, а очень зорким и
наблюдательным человеком. И тяжело мне признаваться — ну, да что делать,
покаюсь! Ведь и, правда, читатель, слона-то он и не приметил! Ну, и штуку
удумал-таки г-н Дадонов! Что же такое? А то, оказывается, что нужно внести 2
рубля за чтение, да тут же 4 рубля залогу за книгу оставить. И диви от большого
заработка, а ну, как в зимнее время рабочий заработает 8—9 рублей в месяц, а тут
залогу — такую оказию — 4 рубля за чтение... Ох, не с руки это нам, г-н Дадонов!
Поверите, ей богу, не с руки! Статочное ли дело половину заработка отдать в
залог за книги, когда и на хлеб со щами чувствуем недохватку. Нет, уж увольте,
как-нибудь обойдёмся!.. Да и то по секрету вам нужно сказать, небезопасно туда
ходить нашему брату. Пошёл так-то один, он не удовлетворился этими библиотеками,
про которые вы нам сообщили, ну, вот запомнил он более порядочных книг названий
пять, да прямо в публичную:
— Так и так, позвольте, мол, мне такую-то книжку.
— Такой нет.
— Ну, такую. — И такой нет. — А такую? — Тоже нет.
— Позвольте тогда Дарвина. — Да ты кто такой? — Рабочий.— А где работаешь? —
Вам это зачем? — Ну, где ты живешь? и т. д. Наконец, рассказал рабочий всё, где
живёт; где работает, да так без книги и ушёл из публичной. Наверное, потом
рабочего искали на фабрике, но оказалось, что он сказал не настоящее имя, а
выдуманное. Так вот оно что, г-н Дадонов! Уж не потому ли вам отвечали, что
рабочие не интересуются бытом рабочих в других странах? А ведь и правда, г-н
Дадонов, потому! Ларчик-то оказывается, открывается очень просто, а вы {168} столько времени ходили кругом да около, напрасно, совсем
напрасно! Для нас очень понятно, что вам ответили относительно отсутствия у
рабочих интереса к бытоописанию жизни рабочих в других странах и относительно
других вопросов. «Овцы там наверное были? Ох, нет, про них-то и забыли!» Г-н
Дадонов тоже устроил нечто похожее на волчий суд. Для того чтобы утверждать, что
рабочие равнодушны к знанию и не хотят ничего читать, нужно в
Иваново-Вознесенске открыть библиотеку не меньше, чем на 25 тысяч томов и притом
не по выбору министерских каталогов или, ещё хуже, каталогов для библиотек
обществ трезвости, а по выбору читателей, и чтобы там не смотрели на рабочего,
как на существо низшее, и чтобы у рабочих не арестовывали Решётникова, как книгу
воспрещённую, — тогда и видно было бы стремление рабочих к знанию. Г-да
Дадоновы, действующие в интересах Сипягиных и т. п., пусть не забывают, что
последние держат дубинку с надписью: «на основании 144 ст. » и т. д., которой
постоянно готовы ошарашить по голове «Русское богатство» и другие органы, и
таким органам не удастся замолить своих грехов перед Сипягиным статьями г-д
Дадоновых.
А позвольте спросить вас, г-н Дадонов, что сделано для нас в смысле
газет? Есть ли хоть одна порядочная газета? И если есть, доступна ли
она по цене иваново-вознесенским рабочим? Рабочие, выписывающие газеты, могут ли
они что-нибудь почерпнуть из них порядочное? Нет! И пока нет надежды получить
порядочную газету, дающую рабочему что-нибудь добросовестное, которая говорила
бы правду прямо в глаза, не стесняясь. Газеты же, подобные «Свету», могут только
унизить, одурачить рабочих; «Биржевые ведомости» тоже стараются доказать, что
рабочие невежественны, тогда как жалованье получают большое (должный ответ
получил г-н Независимый от слесаря). «Бирж, ведомости» рассуждают так: стоит их
величеству слово сказать, и земной шар тотчас же раскроется пополам и из него,
как из арбуза, посыпятся зёрнышки в виде разных циркуляров об ослаблении
цензурных условий, и г-да редакторы умильно будут их подбирать. Их же
величество, выбросивши несущественную часть, продолжает сосать соки из русского
народа. Выходит, что русскому рабочему нет никакой возможности развиваться
цензурно, и потому он охотно склоняется {169} достигать
этого бесцензурным путём, и вот выходит, что, где бы ни появлялась нелегальная
литература и в каком угодно количестве, её всё равно чувствуется большой
недостаток, рабочие читают её, интересуются ею, скрывают её хотя всё это
сопряжено с большими неудобствами и нередко не безопасно для личности. Пусть,
доставит нам г-н Дадонов что-либо порядочное, и мы найдём желающих прочесть
доставленное и людей, несомненно интересующихся наукой и знанием. Вообще лучше
было бы, чтобы г-да Дадоновы приходили не смотреть, что читают, а принесли бы
что-нибудь прочесть. Если этого они не желают нести рабочему, то пусть несут
крестьянину, который. духовно в десять раз голоднее рабочего фабричного или
заводского, и всё же для таких голодных г-да Дадоновы не желают пальцем о палец
ударить. У нас хулителей всегда было и есть слишком много, а порядочных людей
нам редко приходится встречать и тем с большим удовольствием встретим всякого,
желающего делать посильное для просвещения. Да простится мне, хотел бы спросить:
много ли читает интеллигенция с клеймом известного образования в каком-нибудь
провинциальном городке, как то: становой, исправник, следователь, поп, помещик,
чиновники, земские начальники, офицеры? Можно сказать, не преувеличивая, что они
больше заняты картами и пьянством, нежели чтением, а кажется, и образование
получили не такое, как рабочие, времени имеют чёртову пропасть против рабочих,
не так тесно живут, да и кормятся против нашего куда как не плохо. Отчего это,
г-н Дадонов?
Относительно театров — факт общеизвестный и подтверждения не требующий, что
всюду бывают театры полнёхоньки, если только в них ставятся порядочные вещи и
хорошо исполняются и если цены местам не дороги, да притом если слышно со сцены
в дешёвое место, что не всегда на самом деле бывает. И если г-н Дадонов рабочих
не заметил, то возможно, что он ожидал в театре встретить рабочих с засученными
рукавами, как они бывают на фабрике или выходят из последней. Наблюдательность
г-на Дадонова мы знаем.
Пойдём дальше. Г-н Дадонов говорит вот что: «Не заметно никаких симптомов
кооперативного движения». Если он не заметил никаких симптомов, то мы заметили
целое общество потребителей, его лавки, его устав. На это {170} же самое отвечал г-н Шестернин, но мы скажем по этому
поводу кое-что другое, чего не сказал г-н Шестернин. Именно, что в данный момент
в России какая бы то ни была правильная кооперативная деятельность парализована
или, если хотите, терроризована. Если рабочие где что-либо подобное вздумают
устроить и сразу не будет видно, что это учреждение чисто буржуазное, то прежде
всего они должны доказать свою благонадёжность, а так как в благонадёжность
предержащие власти постоянно не верят, то и выходит, что ещё устав общества не
выработан, а некоторые члены уже знают кузькину мать. А пока этот устав
таскается по канцеляриям, то и остальных членов постараются силой куда-нибудь
спровадить. В России было очень большое количество подано всяких уставов, но
утверждено было слишком мало, и то такие, где. почётным членом или обязательным
состоит губернатор, фабрикант, заводчик, фабричный инспектор и т. п. И быть
уверенным, что в таких обществах есть основание думать об улучшении положения
рабочих, всё равно, что утверждать, якобы земские начальники отцы родные для
крестьян...
Постоянно у рабочих в больших городах есть желание открыть клуб для рабочих,
но его пока ещё не разрешили. Поэтому рабочий в силу необходимости шёл в трактир
послушать орган или гармонику, и остроумничать над этим нехорошо господам
литераторам. Разрешённые же общества постоянно должны чувствовать и находиться
под страхом закрытия, на собраниях должны говорить оглядываясь, как бы какая
жаба или гадюка не прыгнула на шею; постоянно дрожать за денежный фонд, как бы
его не арестовало и не присвоило правительство. Стоит только допустить мысль о
стачке и помощи такого общества своим членам-стачечникам, как уже общество
прикажет долго жить по распоряжению губернатора. Очевидно, г-ну Дадонову
неизвестно, что случаи очень не редки, когда рабочие вырабатывали уставы и,
только подписавши, успевали подать, как все подписавшиеся бывали арестованы и
административным порядком попадали в Архангельскую, Вологодскую, Вятскую
губернии. И уж не потому ли, что у них было «незаметно никаких симптомов
кооперативного движения»? Смеем уверить г-на Дадонова, что мы это говорим на
основании фактов, и не в наших интересах говорить против коопераций. Только,
трезво смотря на {171} действительность, приходится
признаться, что при современном политическом бесправии кооперации не могут бить
настолько полезны рабочим, насколько правительству. Всякий энергичный рабочий,
увлёкшись кооперациями, этим осудит себя на толчение воды в ступе или топтание
на одном месте. В десять лет, при современном бесправном положении, кооперация
не сможет дать того, что она сможет дать в один год при политической свободе, а
потому мы больше желаем, чтобы увлекались нелегальным просвещением масс
(агитацией), а не кооперациями. Всякий знает, каковы современные существующие
кооперативные общества и потребительные лавки, во что они выродились в России.
Именно, местами они носят характер чисто буржуазных учреждений, местами —
хороших хозяйских способов получения от рабочих обратно заработка, местами —
чисто бюрократическое (чиновничье) учреждение, местами — затрудняюсь назвать, но
смысл таков: дайте ваши деньги, мы ими будем распоряжаться! Теоретически цель
обществ почти всюду одинакова и выражается словами § 1: «учреждается с целью
доставления своим членам по возможно дешёвой цене жизненных продуктов» и т. п.;
это, как мы сказали, теоретически, а на практике совсем другая песня.
К первому порядку можно причислить лавки на паях (например, такая лавка в СПБ
на Путиловском заводе). Устанавливаются сначала основания несколько паев. Часто,
конечно, пайщиками состоят не рабочие, и вот, как только дело встало в
коммерческом смысле на ноги, пайщики стремятся сократить число паев или, если
этого нельзя сделать, забрать паи в меньшее количество рук, и тогда ценность пая
растёт так, что простой рабочий сделаться пайщиком не может; правда, он
перестаёт и думать об этом. Пайщики получают хороший дивиденд, а заборщики, если
кое-что и получат, то только в хорошей лавке и в счастливый год. Делами лавки
вертят несколько лиц, и заборщики никакого влияния на них не имеют. Другой
случай. На фабриках и заводах очень много лавок, открытых на средства хозяев, и
ими же ставится администрация, они же и получают все доходы. Захоти рабочие там
устроить что-нибудь своё кооперативное, и они немедленно будут уволены с фабрики
или даже познакомятся с г-дами Сипягиными, и последние не преминут применить к
ним административные меры воздействия. Рабочие же, {172}
приходя в лавки, где они принуждены платить кровные деньги, должны себя держать,
как на фабрике: тут тоже фабричное начальство, оно одинаково может прогнать с
фабрики, а потому — бери, не разговаривая, что дают. Служить средством борьбы
кооперации не могут, в данном случае приходится рамки экономической борьбы
расширить до политической. В третьем случае лавки при железных дорогах всюду
носят характер чиновничий, и хотя главный доход получается с рабочих, но
последние не могут провести достаточное число рабочих в управление лавки, а те,
которые попадают, идут на помочах у чиновников. В-четвёртых. Есть лавки, где
трудно отличить администрацию лавки от администрации завода, несмотря на то, что
первая выборная (Брянские заводы). Представьте себе, что в администрацию лавки
попадает человек, нежелательный администрации завода. И что же? Она такого
человека спокойно увольняет с завода, и он тогда лишается права быть не только
членом правления лавки, но даже простым забойщиком таковой. И это может
случиться не только в упомянутой лавке (Брянских заводов), но почти в каждой.
В-пятых, ореховская лавка функционирует на деньги рабочих, и всякий, кто желает
забирать в ней, должен определить сумму своего забора, предположим 10 рублей, и
таковую вперед ввести, и только тогда может быть заборщиком, но не больше, как
на ту сумму, какую внёс. Это, кажется, последнее слово кооперации в России. И
тут администраций выборная, но при выборах собравшиеся мастера, конторщики и
прочая фабричная администрация фактически являются вершителями судеб лавки.
Рабочие стоят позади и только поддакивают контористам, которые, конечно,
предлагают своих кандидатов... Вот в общих коротких словах система наших
кооперативных обществ, и та работа, которая в них выпадает на долю рабочих,
работа незавидная! Но зато рабочие повсюду в них являются стадом овец, которых
стараются почаще стричь. Посмотрим, что выигрывают рабочие, если они забирают в
кооперативных или общественных лавках. Всюду в России в любой такой лавке вот
как поступают. Самая хорошая, мягкая часть мяса попадает управляющему на стол,
потом мастерам, конторщикам, смотрителям, приказчикам, а кости, жилистая часть,
словом, плохое мясо попадает рабочим, залежалое мясо — тоже рабочим попортилось
— тоже им. Недавно пришлось {173} слышать, как в Орехове
усиленно сбывали рабочим солонину с червями. Именно — «сбывали»: кто написал 2
фунта, тому весили 3 фунта и т. п. Спохватившись, рабочие перестали писать мясо
и этим только спаслись; кто выписал, тот уже не мог не взять. Если кто из
заборщиков сделает замечание на плохое качество товара, то целая буря поднимется
против него, В лучшем случае вырвут у него из руки крикнут, что, мол, если не
хочешь брать, тогда и писать было не нужно. Хорошо, если рабочий молча уйдёт, а
то бывает и хуже: запишут, номер книжки, а там вызов в контору, где громовые
слова: бунт, возмущение, стачка, тюрьма, Сибирь, так и сыпятся на голову
строптивого рабочего. Бывает, что управляющий лавки заставляет уволить рабочего
с завода или фабрики, и это только за то, что рабочий не пожелал взять плохое
мясо или же указал на какой-нибудь случай злоупотребления. Нужно ещё взять во
внимание, что постоянно приходится долго ожидать, пока получишь желаемый
продукт. Бывают очень нередко ошибки, что заборщик наберёт на 8—9 рублей, а у
него вычтут в получку 12—15 рублей. Туда-сюда суётся рабочий, наконец, удаётся
установить ошибку, но деньги-то задержали и потому жди до следующего месяца. Но
если ошибка произошла не на 5—б рублей, а на 1 рубль или 50 копеек, то рабочий
махнёт рукой в большинстве случаев; так приятно для него доискаться ошибки! Но
самую главную вину можно выставить против современных кооперативных лавок ту,
что они поступают как раз наоборот против целей своего основания, т. е. продают
товары не всегда доброкачественные, а берут очень часто дороже частных
торговцев. Так, упомянутая (брянская) лавка берёт на некоторые товары 20—25%
дороже, а 5—10% — это явление у нас самое заурядное; иваново-вознесенская продаёт
товар не дешевле частных лавок, но зато последние при расплате скидывают 2—5%,
общество же этого не делает; в Орехове мясо продают в потребительных лавках
дороже, чем в частных, и притом третий сорт не записывают, это значит, что его
считают за второй сорт. Обращение всюду с заборщиками грубое, кто почище и с
положением, тот постоянно пользуется привилегиями… Это всё, во что выродилась у
нас благородная идея кооперации. То, что местами за границей служит облегчением
и помощью для рабочих, то у нас пока ещё есть бич рабочих и не мудрено, {174} что повсюду кооперативные лавки не приобрели ещё симпатий
рабочих, и не сладки плоды, пожинаемые рабочим от коопераций! Потому-то г-да
Дадоновы и могут говорить об отсутствии симптомов и стремлений...
Ещё не всё! Относительно коопераций наши Сипягины могут сказать, что они у
нас разрешаются, и никаких особых препятствий против них нет. Они (Сипягины) всё
делали, дабы загадить благородную идею и идут уже гораздо дальше. Так, недавно
один жандармский ротмистр разъяснял, что его превосходительство г-н губернатор
охотно разрешает и даже сочувствует артелям Левицкого, и потому-де рабочим этого
опасаться не следует: преследовать, мол, за это не будут. А Святополк-Мирский
тоже говорил: «Чего бы тут (в Екатеринославе) не устроить какой-нибудь рабочий
союз?». Не знаем, легко ли он разрешает теперь рабочие союзы? Впрочем, он
человек предупредительный... Едва ли мы ошибёмся, если скажем, что правительство
позаботилось своевременно извратить смысл кооперации, загадить благородную идею,
а теперь, чувствуя приближение неизбежности рабочих союзов, оно старается
направить их по руслу ошибок, неудач и тем парализовать их хорошие стороны.
Таков смысл их неподдельного сочувствия. Поэтому приходится быть вдвойне
осторожным и очень зорким, чтобы всё подметить своевременно. Вполне ли это
удастся, сказать трудно.
Заканчивая свою статью, г-н Дадонов говорит: «точно также извне пришла на
фабрику жажда света, культуры». Не думает ли г-н Дадонов, что свет пришёл на
фабрику с военной службы? И что солдаты несут туда культуру? Если да, то
очевидно, что у г-на Дадонова и чертополох сойдёт за шелковицу. Я же приведу
такой пример: в настоящее время служит в солдатах один из бывших фабричных,
который видел фабричный «бунт», да и сам не был простым зрителем; уходя в
солдаты, он оставил после себя товарищей. Так вот пишет этот солдат: «Я своего
дела и тут не оставляю, и есть у меня таких же людей, как и я, человек
десять»... Ага! оказывается, опять ларчик открывается просто, и становится
понятно, каким, путём знание проникает в головы солдатиков. А нужно сказать,
теперь из фабричных и заводских рабочих попадает-таки на службу не мало людей,
которые просят прислать им книжонок, да получше, а при случае с оказией и
нелегальных послать. Вот что знаем мы, рабочие. Скажу ещё вот что: {175} из Иваново-Вознесенска высылают рабочих не менее
интеллигентных, чем Иван Фролов (о котором упоминает г-н Дадонов), хотя, может
быть, они и не занимаются стихами и вам известны не были. И всё же в
Иваново-Вознесенске остаются ещё развитые рабочие, хотя сюда никаких
неблагонадёжных не пускают. Выходит даже некоторая аналогия (сходство) с
университетом: как университет выпускает и высылает часть «света и культуры» в
разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со своими
рабочими «свет культуры» во все концы России.
Рабочий за рабочих
(Приложение к № 9 «Искры», октябрь 1901 г.)
1 Рабочие часто заболевают от переутомления и сваливаются в постель. Это на своеобразном языке рабочих называется
«зарвался на работе».— Прим. автора.
2 На пару — это значит, что одинаковая работа у двух или нескольких рабочих, и тогда, как было упомянуто, один
старается обогнать другого или, по крайней мере, не отстать от других.— Прим. автора.
3 П. А. Морозов — ткач, агитатор среди
петербургских рабочих. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В Сольвычегодской
ссылке был тесно связан с Н. Е. Федосеевым. После Вологодской ссылки попал
в Екатеринослав,
где, уже тяжело больной, вёл большую; революционную работу. В апреле 1899 года
был вновь арестован. Из тюрьмы вышел безнадёжно больным, был выслан в город
Сычёвку, Смоленской губ., где и умер. Ленинская «Искра» в статье,
посвященной памяти П. А. Морозова, писала: «Покойный принадлежал к числу
лучших агитаторов нашего движения» (№ 4, май 1901 года.— Ред.).
4 Этот способ позднее стал хорошо известен жандармам, и в Екатеринославе были часты случаи, когда городовые и шпионы толкали заподозренных рукой в бок или в грудь, узнавая таким образом, что идущей обложен литературой, и тотчас же его арестовывали. Было несколько случаев, когда арестовывали таким образом с листками и вообще с нелегальной литературой.— Прим. автора.
5 Лектором был Владимир Ильич Ленин.— Ред.
6 Библиотекой заведывала Н. К. Крупская. — Ред.
7 Манифест 1 съезда РСДРП.— Ред.
8 История появления этой статьи И. В. Бабушкина, литературный талант которого первым заметил и высоко оценил В. И. Ленин, описана Н. К. Крупской в её брошюре «Ленин — редактор и организатор партийной печати»:
«...Владимир Ильич хотел получать не только корреспонденция от рабочих, ему хотелось,
чтобы рабочие писали в «Искру» и статьи. По поручению Владимира Ильича я писала
Бабушкину (мы его хорошо знали; Бабушкин учился у меня в группе в вечерне-воскресной
школе и одновременно входил в кружок, в котором Владимир Ильич вёл занятия):
«У нас к вам просьба. Достаньте в библиотеке «Русское богатство», начиная с декабря
прошлого года. Там некто Дадонов написал возмутительную статью об Иваново-Вознесенске,
где старается изобразить иваново-вознесенских рабочих чуждыми всякой солидарности,
без всяких запросов и стремлений. Шестернин опровергал там же Дадонова. Дадонов
написал статью ещё более возмутительную, и тогда «Русское богатство» заявило,
что оно прекращает дальнейшее обсуждение вопроса. Прочтите эти статьи (если нужно,
купите нужные номера «Русского богатства» за наш счёт) и напишите по этому поводу
статью или заметку (я написала в письме «заметку», Владимир Ильич, просматривая
его, вставил «статью или заметку». — Н. К.), постарайтесь собрать
как можно больше фактических данных. Очень важно
бы было поместить в «Искре» (Владимир Ильич вставил или «Заре», ему
хотелось, чтобы в толстом научном журнале появилась статья рабочего) или «Заре»
опровержение этого вздора со стороны рабочего (слово «рабочего» Ильич
подчеркнул три раза. — Н. К.)., близко знакомого с жизнью Иваново-Вознесенска».
Это опровержение было написано Бабушкиным, вылилось в целую брошюру, которая
напечатана приложением к № 9 «Искры» от октября 1901 г. под заглавием «В защиту
Иваново-вознесенских рабочих» за подписью «Рабочий за рабочих». — Ред.
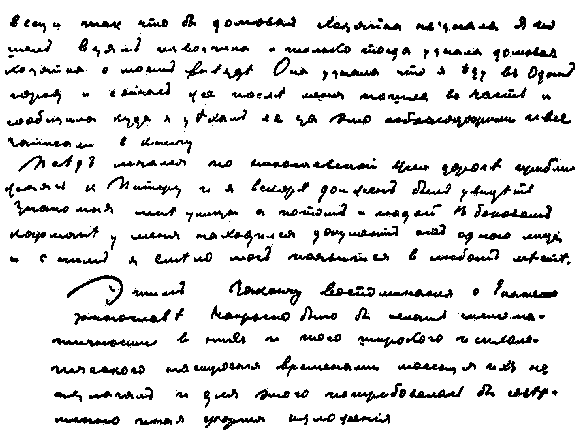
Автограф И. В. Бабушкина из его "Воспоминаний". Написано в Лондоне в 1902 году.
Приложение. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И.В.БАБУШКИНА, НАПЕЧАТАННЫЕ В ГАЗЕТЕ
«ИСКРА» в 1901 г.
«В ЗАЩИТУ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ РАБОЧИХ»8
В возрасте
до 15 лет
159 человек
»
от 15 до 25 лет
818 »
»
» 20 » 25 »
240 »
16,41%
»
» 25 » 30 »
150 »
10,91%
»
» 30 » 40 »
54 »
—
»
» 40 » 50 »
27 »
—
»
выше 50 »
8 »
—